На вопросы Охтинского пресс-центра отвечает режиссёр Борис Дмитриевич Павлович. Интервью было записано летом 2020 года, поэтому читать его сейчас особенно интересно.
— Борис, я буду часто использовать Ваши цитаты и просить их прокомментировать. Вот первая: «Театром занялся случайно, а первый спектакль сделал ужасно».
 — Да, я случайно попал в практическую режиссуру. Я поступил учиться на театроведа. Мне очень нравилось смотреть чужие спектакли и писать о них. Вышло так, что уже на первом курсе мы публиковались в «Петербургском театральном журнале». Мне это было очень приятно, и я был вполне доволен будущей карьерой театроведа.
— Да, я случайно попал в практическую режиссуру. Я поступил учиться на театроведа. Мне очень нравилось смотреть чужие спектакли и писать о них. Вышло так, что уже на первом курсе мы публиковались в «Петербургском театральном журнале». Мне это было очень приятно, и я был вполне доволен будущей карьерой театроведа.
Однажды ради эксперимента мы решили сделать репортаж о вступительных экзаменах на режиссёрское отделение. Попробовать поступить, самим пройти все туры и потом написать об этом репортаж силами нашего театроведческого курса. Я пошёл туда с намерением посмотреть, как устроена механика испытаний для будущих режиссёров. Конечно, надо было выучить стихи, басню и прозу — всё как положено.
Все мои однокурсницы быстро срезались, потому что к девушкам экзаменационная комиссия безжалостна. Их всегда очень много приходит поступать на режиссёров и актёров, а мужчин — гораздо меньше. К мужчинам относятся гораздо более благосклонно и пропускают дальше, как говорят в театре, «за штаны». Меня просили прийти сначала на первый тур, потом на второй. Я вошёл в азарт, втянулся. И вдруг, с удивлением и ужасом, обнаружил себя в списке зачисленных на курс Геннадия Рафаиловича Тростянецкого.
Возник мучительный вопрос: «Что делать?» Я не собирался бросать театроведение. Но раз уж меня взяли на режиссуру, я подумал, что это неспроста, и перешёл туда. Вернее, начал учиться заново. Так что, в каком-то смысле, я в режиссуре оказался случайно.
Из-за этого первые шаги были очень мучительными. (улыбается) Есть люди, которые в детстве занимались в театральных студиях, играли. Многие из моих новых однокурсников (на режиссуре) уже имели оконченное актёрское образование. А я попал как кур в ощип. Так что, начало было очень болезненным.
— И сразу несколько вопросов! Скажите, а учиться одновременно и тут, и там не получилось бы?
— Я попытался. Первый год так и делал. Продолжал учиться на третьем курсе театроведения параллельно с первым режиссёрским. Но выдержал так только один курс, и уже летнюю сессию закрыть на театроведении не смог, потому что сдавать два комплекта экзаменов оказалось невозможным. Я решил, что не надо мучить других людей и самого себя, забрал документы с театроведения и остался только режиссёром. Так что, на театроведении у меня неполное высшее — три курса.
— Но Вас не выгоняли и не ставили ультиматум: выбрать что-то одно?
— Театроведческая кафедра в тот момент была абсолютно чудесной. У нас были отличные кураторы, со всеми педагогами был очень хороший контакт. Они помогали и были бы рады, чтобы я продолжал обучение. Если бы я смог это сделать, они тоже были бы рады. Но у меня не получилось.
— И второй вопрос, вытекающий из Вашего рассказа: не жалеете, что не окончили театроведение?
 — Конечно, если бы я окончил, было бы приятно. Всегда лучше что-то иметь, чем не иметь. (улыбается) Но мне кажется, что в моём случае это действительно несовместимо. Я знаю это по себе до сих пор: когда ты рефлексируешь, анализируешь, наблюдаешь, делаешь выводы, то включается один способ мышления. А когда ты сам практически сочиняешь и что-то делаешь, это другой образ мышления.
— Конечно, если бы я окончил, было бы приятно. Всегда лучше что-то иметь, чем не иметь. (улыбается) Но мне кажется, что в моём случае это действительно несовместимо. Я знаю это по себе до сих пор: когда ты рефлексируешь, анализируешь, наблюдаешь, делаешь выводы, то включается один способ мышления. А когда ты сам практически сочиняешь и что-то делаешь, это другой образ мышления.
Как говорил Пушкин, «поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». И это очень глубокое соображение. Занимаясь практикой, ты должен быть в каком-то смысле наивнее, растеряннее. Всё равно театральное искусство вырастает из недоумения перед какими-то вопросами. Трагический герой всё время ошибается. И ты, следуя за героями, тоже всё время должен быть в позиции разведённых рук и какого-то недоумения.
А когда ты пишешь теоретический текст, в тебе должна быть трезвость. Как раз наоборот, ты не должен вестись на эмоциональные ловушки. Тебе нужно сохранять дистанцию. Находиться в этих двух типах мышления одновременно — невозможно.
Я пытался. У меня был второй заход на эту территорию. После получения режиссёрского диплома я поступил в аспирантуру. Моим научным руководителем была Лариса Вячеславовна Грачёва, создавшая театр СХТ. Она очень серьёзно помогала мне в намерении написать диссертацию. Я действительно её готовил: написал первую главу, прошёл защиту темы.
Но в это время меня пригласили на должность главного режиссёра в «Театр на Спасской» в городе Кирове. Опять-таки возникла несовместимость двух типов мышления. С одной стороны — театр, вопросы актёрских зарплат, вопросы репертуара, взаимодействия с продажей билетов — практические вопросы, в которые нужно влипнуть. С другой стороны — аналитическое мышление, когда нужно всё озирать с высоты птичьего полёта. Я долго надеялся, что всё-таки напишу эту диссертацию, но не написал.
Сейчас у меня бывают такие периоды, когда я не занят непосредственно постановкой и репетиционной работой. Тогда можно сделать шаг в сторону. Тогда я действительно пишу что-то аналитическое. Но всё же это воплотилось в то, что частью моей работы является написание инсценировок.
Например, в фонде “Alma Mater”, с которым мы делаем инклюзивный проект «Разговоры», приходится писать очень много концепций. Каждый проект нужно отдельно защищать. В заявке на гранты нужно составлять теоретическую часть. Понятно, что экономическую часть составляют продюсеры, а я пишу художественное обоснование проекта. Вот так моё театроведческое мышление стало частью актуального процесса.
— И опять же: не хотите всё-таки защититься?
— Я не вижу в этом особой необходимости. Я не занимаюсь академическим преподаванием, не работаю в вузе. В практическом смысле учёная степень мне не нужна. Исследованиями я и так перманентно занимаюсь, всё время читаю какие-то книжки, конспектирую их, пишу статьи для журналов. В этом смысле я существую и внутри научной парадигмы. Заниматься этим по-настоящему серьёзно у меня не получается. Делать «в пол-ноги» — это профанация.
Я считаю, что присутствие во мне теоретического образования усилило меня как режиссёра. В этом смысле я просто не расщепляюсь. Считаю себя режиссёром, который, помимо всего прочего, имеет вкус к аналитическому мышлению.
— Я полностью согласен с Вашей аргументацией. Но нет ли у Вас мотива хотя бы психотерапевтического: закрыть гештальт, чтобы не было жалко начатой и брошенной работы?
— Она не брошена — она вошла в ткань, в плоть и кровь того, что я делаю на практике.
Например, в июле 2020 года в театре «Карлсон Хаус» проходила Лаборатория фигуративного театра. Руководители лаборатории пригласили меня и предложили выбрать тему, чтобы потом поработать над тем, какие измерения могут быть у недраматического театра — театра предмета. Я думал, что бы такого предложить, и предложил мысленные эксперименты в истории философии. Эта тема опирается на мой бэкграунд — на то, что я читаю много книг по философии.
Мы занимались разбором философских исследований Людвига Витгенштейна, которые полностью состоят из мысленных экспериментов. Для того, чтобы ввести ребят в их контекст, я сделал подборку, начиная с аристотелевских Зенона, Ахиллеса и черепахи, с Плутарха и его описания корабля Тесея, у которого заменяли доски до тех пор, пока в корабле не осталось ни одной доски, которая, собственно, отплывала… (улыбается)
— И это был уже не тот корабль…
 — Или тот?! В чём, собственно, заключается философский парадокс. (улыбается)
— Или тот?! В чём, собственно, заключается философский парадокс. (улыбается)
И вот мы занимаемся практической работой в практическом театре, опрокинув в неё теоретические вопросы. Сейчас в моей практике соединилось то, чем я раньше занимался отдельно.
Тем более, я же был главным режиссёром ТЮЗа! Поэтому моя теоретическая и практическая ипостаси были разнесены. Всё-таки в ТЮЗе другой репертуар и другие задачи. А сейчас я занимаюсь преимущественно независимым театром, где есть возможность всё совмещать в одних и тех же творческих вопросах. Скажем, «Исследование ужаса» Леонида Липавского — очень философски апроприированная работа. Философские трактаты Друскина, Липавского, Хармса — это вещь с опорой на теоретическое знание.
— Борис, а всё-таки — «Первый спектакль сделал ужасно». О чём это?
— Тогда я был всего лишь театроведом и не вынашивал мыслей ни о какой режиссуре. Моя мама до сих пор работает в Колледже петербургской моды, который раньше был швейным ПТУ № 104. Она позвала меня туда вести что-то наподобие нынешней внеурочной деятельности, чтобы сделать спектакль. Мы поставили «Женитьбу» Гоголя.
Всё, что к тому моменту я знал как театровед, я опрокинул на бедных портних: Додина, Галибина, Бутусова, Могучего, Туминаса, Някрошюса. Как Вы понимаете из этого списка, это театр агрессивной метафоры, это визуальный театр, который был передовым в 90-е годы. Портнихи, на которых я всё это обрушил, сломались. И на каждой репетиции мы недосчитывались кого-то из участников…
— Ой, как это знакомо!.. (смеётся)
— В какой-то момент на репетиции остались только я, моя девушка Оля, которая помогала как художник, а потом и играла тоже, и единственная пережившая репетиции студентка. Мы сделали очень абсурдный спектакль, в котором я играл фактически за всех, кто сбежал. (улыбается)
В этом смысле было полное фиаско — спектакль был ужасный. Но это важный опыт, который научил меня, что режиссура заключается не в том, чтобы придумать спектакль, а в том, чтобы дать работу актёрам. Если ты всё за них придумал, а актёры расползаются, то грош цена такому спектаклю. А ещё на Оле я в итоге женился.
— Ещё одна Ваша фраза, по-моему, кировского периода: «Учитель — это агент современного искусства».
— Это не априорное суждение. У учителя есть такая возможность.
— Вы говорили о том, что это работает на Западе.
— Нет, я говорил о такой возможности. У нас работает жёсткий стереотип: «Современное искусство — прерогатива интеллектуального меньшинства». Современное искусство — это элитарная область, она жёстко отсечена…
— От мейнстрима?
 — От повседневности. Дети, которые сейчас бегают во дворе, скорее всего, ничего не знают про Яна Фабра. Про Пушкина они волей-неволей слышали, про Репина и Сурикова слышали, а вот про современное искусство… Это не вопрос их возраста. Они вырастут, и ничего не изменится. Элитарность современного искусства — это, к сожалению, данность. Понятно, что есть вещи, которые проникают в мейнстрим, как Бэнкси, но это отдельные исключения. Во многом это происходит благодаря политике, политическому резонансу, а не самому искусству.
— От повседневности. Дети, которые сейчас бегают во дворе, скорее всего, ничего не знают про Яна Фабра. Про Пушкина они волей-неволей слышали, про Репина и Сурикова слышали, а вот про современное искусство… Это не вопрос их возраста. Они вырастут, и ничего не изменится. Элитарность современного искусства — это, к сожалению, данность. Понятно, что есть вещи, которые проникают в мейнстрим, как Бэнкси, но это отдельные исключения. Во многом это происходит благодаря политике, политическому резонансу, а не самому искусству.
Учитель — человек культуры, который имеет навык интересоваться, читать язык искусства и имеет прямой выход на самую широкую аудиторию. Никто не может миновать этап школы. Многие люди не поступают в вуз, но в школу приходят все. Итак, учитель — агент культуры. Но чаще всего получается, что он выступает агентом законсервированной культуры — того, что существует как музейная ценность.
Поскольку мне повезло, и в старших классах я попал в великолепную школу № 203 на улице Салтыкова-Щедрина (ныне — Кирочной), во дворе кинотеатра «Спартак», то я имел дело с учителями, которые были в курсе современной культуры. Например, учительница литературы Елена Александровна Шалимова на уроках ставила нам пластинки Шнитке — тогда ещё вполне себе живого композитора. На уроках мы говорили и про Курёхина, тоже ещё живого — то есть, про абсолютно живую культуру.
Поэтому у меня есть понимание того, что школьный учитель может нести информацию о современном искусстве. И я всегда старался вовлечь учителей в процесс инфицирования учеников актуальными культурными ценностями.
— И как? Удавалось?
— Несколько лет в БДТ действовал проект «Педагогическая лаборатория» — очень эффективная вещь. Конечно, к нам приходили учителя, уже обладавшие активной жизненной позицией. Возможно, если бы они такими не были, то не пришли бы в БДТ. Кроме того, приходили люди, увлечённые академической культурой. Они шли в БДТ как в музей. А мы с коллегами вовлекали их в современное искусство, в сегодняшние технологии, сегодняшние методы.
— Когда я в ноябре 2019 года был на профориентационном форуме «Проектория» в Ярославле, сами учителя говорили с изрядной долей иронии: «Кто такой современный российский учитель? Это женщина за пятьдесят, отягощённая личными и семейными проблемами».
— Понятное дело, это известный образ.
— С ними тоже удавалось работать?
— Вы дали социологический портрет. Но чем ещё хорошо современное искусство? Помните, я сказал об его элитарности? Но эта элитарность потребительская. Современное искусство находится в Русском музее, в здании Главного штаба — в местах, с которыми условные жители спальных районов себя не идентифицируют. Но технологически современное искусство гораздо более открыто разнообразной аудитории как производителю. Как ни странно.
Обычный человек, не являющийся специалистом в области музыки, не может исполнить партию в симфоническом произведении. Например, он не может взять виолончель и сыграть. А вот исполнить «4,33» Кейджа может.
Обычный человек не может написать икону или реалистический портрет, потому что это требует очень сложной техники. Но, например, создать супрематическую композицию — может. И может сделать композицию из ready-made объектов, как учил нас Дюшан.
В современном искусстве каждый может быть художником. Технологическое мастерство не является входным билетом. Другое дело: если ты хочешь, чтобы твоё искусство стало достоянием миллионов, тогда будь добр — будь великим, будь действительно искусным. Но если тебе хочется иметь доступ к самому механизму, и своё искусство ты покажешь только своим тридцати ученикам, и каждый из тридцати учеников тоже что-то сделает — пожалуйста, ты художник. Энди Уорхол про это, Йозеф Бойс про это, весь стрит-арт про это — каждый может быть художником.
То же самое в театре. Сейчас театр часто стал работать с документальным материалом. Расшифровываем диктофонную запись — это пьеса. Следовательно, создать пьесу могут не только Володин или Вампилов, но и любой человек с диктофоном. С одной стороны, это пугающая вещь: как же так, размываются границы? С другой стороны, это ложная тревога: чтобы стать Володиным или Вампиловым, нужны мастерство и тяжёлая ежедневная работа. Мы всё равно понимаем, где Вырыпаев, а где люди, выдающие собственное спонтанное творчество. История делает свою работу: остаются те, кто достоин широкого внимания.
Если описанная Вами женщина — одинокая или не одинокая, за пятьдесят или не за пятьдесят, с тяжёлым бэкграундом или нет — действительно желает получить инструменты для выражения своей сложной жизни, для массового участия своих учеников, то такие инструменты даст ей как раз современное искусство.
Академическое искусство они могут только созерцать: писать сочинения по картинам, слушать записи музыкальных произведений. А вот шумовой оркестр они могут сформировать сами. А поставить документальную пьесу они могут сами. А создать динамическую инсталляцию они могут сами. В классе моей дочери в течение нескольких лет мы отлично проводили арт-салон. Кто-то больше склонен к искусству, кто-то меньше, но все дети, которые хотели участвовать, — участвовали. Мы делали импровизационный оркестр из шумелок, сопелок и свистелок; делали спектакль с декорациями, которые создавались на глазах у зрителей. В течение спектакля дети рисовали маркерами на натянутом крафте, постепенно заполняя пространство во всю стену. Когда ты отдаёшь детям стратегии современного искусства, все кайфуют.
В этом смысле учитель может стать агентом современного искусства, потому что оно очень партиципаторное, то есть расположенное к соучастию.
— Как раз в связи с этим. На одном из последних занятий курса сторителлинга Вы сказали: «Искусство как форма организации жизни». Что это для Вас значит?
 — Принципы соучастия, взаимной заинтересованности, мотивации как чего-то, что выстраивает твою жизнь, — в искусстве эти вещи сильно проявлены. Композиция в искусстве обозрима: вот начало, а вот конец. Вот ты начал что-то делать, а вот оно получилось.
— Принципы соучастия, взаимной заинтересованности, мотивации как чего-то, что выстраивает твою жизнь, — в искусстве эти вещи сильно проявлены. Композиция в искусстве обозрима: вот начало, а вот конец. Вот ты начал что-то делать, а вот оно получилось.
На занятии курса сторителлинга мы вышли на улицу и записали классные рассказы. Даже не будучи культурно обработанными, уже получились классные скетчи — объёмные и содержательные. Это даёт тебе чувственный опыт того, что от тебя что-то зависит. Пока ты не вышел на улицу, это была просто улица. Как только ты применил свой инструмент, начал отбирать, записывать, формулировать, фиксировать… Помните, как у Маяковского: «Улица корчится безъязыкая…» Потому что ещё нет поэта. Появляется поэт — у безъязыкой улицы появляется язык.
— Шершавый.
— (улыбается) Да! Жало змеи. И ты вдруг видишь, что от тебя что-то зависит. И ты можешь это формулировать, складывать. И это даёт определённый опыт. У современного театрального художника Ксении Перетрухиной есть замечательный образ: «Театр — это репетиция свободы». Тебе кажется, что в жизни от тебя ничего не зависит. Но тебя этому научили. Ты пошёл на выборы — ничего не изменилось. Пошёл на работу — ничего не изменилось. На собрание — ничего не изменилось. Неужели нет ни одной территории, где от меня что-то зависит?
Что делает та же Ксения Перетрухина? Она говорит: «А ты встань на стул и посмотри с другой точки зрения! Вдруг твоя комната изменилась?» Этим же занимается Rimini Protokol — сменой ракурса, сменой точки зрения, сменой аспекта и делегированием другому возможности посмотреть на тебя.
Эти вещи меняют твоё самоощущение. И ты вдруг понимаешь, что у тебя много инструментов свободы — просто надо встать на стул и посмотреть с другой точки зрения. В этом смысле современное искусство (да и вообще любое искусство) даёт возможность почувствовать, как это работает.
— Вы так здорово подошли в концовке своего ответа к моему следующему вопросу, как будто либо знаете их сами заранее, либо представляете задуманную мной композицию нашего разговора. Следующая Ваша цитата: «Театр — это место для общественных дискуссий».
— Да. Дело в том, что театр — одно из мест, где встречаются люди больше, чем вдвоём. Мы же почти нигде не встречаемся, мы почти нигде не на бегу. Почти все процессы уже регламентированы. На работе у нас есть определённые функции, мы должны сделать те или иные телодвижения, совершить те или иные операции и идти домой. Дома тоже всё регламентировано бытовыми ритуалами. И эта регламентированность перестаёт чего-то ждать от нас, и мы сами перестаём чего-то ждать от себя самих.
А вот театр — это такое место, куда приходит много людей, и они разные. Это и есть политическая ситуация. Французский философ Жак Рансьер много говорит об этом: он вводит определение «эмансипированного зрителя». Это зритель, который приходит в театр, и там у него действительно интересуются его точкой зрения. Зритель смотрит и принимает решение.
Помните знаменитое выражение «зритель голосует ногами»? На выборах ты уже никак не голосуешь — ты приходишь на участок и видишь стопку проштампованных бюллетеней в запечатанной урне. Ты понимаешь, что можно голосовать ногами, руками, даже хвостом — от этого ничего не поменяется. А в театре ты встаёшь и выходишь. И человек, который встаёт и выходит, видимый. Если я встаю и выхожу посреди действия, у актёров начинает звенеть голос. Им обидно.
Считается, что спектакль прошёл хорошо, если зрители напряжённо смотрели. Если плохо прошёл, то отвлекались, то есть не было контакта. От присутствия зрителя действительно много зависит. Спектакль тогда случился, когда зритель что-то понял.
— Вы сейчас иронизируете?
 — Нет, я так на самом деле думаю. Как спектакль может пройти хорошо, если все зрители спали? Спектакль прошёл хорошо, когда зрители в конце бурно аплодировали. Когда их, что называется, «торкнуло». Театр — это такое место, где от зрителя действительно немало зависит.
— Нет, я так на самом деле думаю. Как спектакль может пройти хорошо, если все зрители спали? Спектакль прошёл хорошо, когда зрители в конце бурно аплодировали. Когда их, что называется, «торкнуло». Театр — это такое место, где от зрителя действительно немало зависит.
Это «эмансипированный зритель» Жака Рансьера. «Эмансипированный» — не в том смысле, что ему разрешили выйти на сцену и что-то сделать. Это совершенно необязательно. «Эмансипированный» — потому что ему оставили его точку зрения. Это, конечно, лишь возможность. Мы понимаем, что есть много манипулятивного театра, в котором режиссёр очень хочет получить от зрителя определённые эмоции, поэтому включает грустную музыку там, где грустно, и весёлую — там, где весело. Этот театр напоминает наш парламент, где от зрителей не ждут никаких выводов, а просто вдалбливают ему в голову определённые ожидаемые вещи.
У Алена Бадью ещё интереснее. У него есть книжка «Рапсодия для театра», где он прямо пишет, что не бывает неполитического театра. Потому что люди начинают обсуждать происходящее. Неважно, что именно они обсуждают — «В лесу родилась ёлочка», «Три поросёнка» — главное, что обсуждают. Он называет самой прекрасной ситуацией очередь в буфет или в туалет. Я стою в очереди за стопкой коньяка с бутербродом и слышу, как стоящие передо мной люди говорят: «Нет, это было чересчур!» А я думаю по-другому. Люди начинают заражать друг друга собственными мнениями, и начинается та самая общественная дискуссия. Это политическая ситуация, потому что больше нигде такая разноголосица не случается.
Когда мы видим на Малой Садовой людей, стоящих в одиночном пикете или с листовками, мы понимаем, что они находятся как бы в колпаке. Прохожие проходят мимо, отводя глаза в сторону. А останавливаются только либо горячие поклонники, либо горячие противники, то есть, люди ангажированные — те, кто и так занял какую-либо политическую позицию.
В театре же существует ситуация обсуждения. Я думал над одним образом, постоял в очереди в буфет, и у меня в голове зародились сомнения. И это очень чувственный образ.
— Именно поэтому спектакль как повод для разговора Вам так важен?
— И поэтому тоже, конечно. Как повод для обсуждения хорошо любое произведение искусства: книга, фильм, картина. Тут спектакль не выпадает из общего ряда. Просто он вынужденно ставит нас в ситуацию обсуждения. Если я сижу в зрительном зале, и вокруг все смеются, а я — нет, это политическая ситуация! Почему они все смеются, а мне это кажется страшным? Моё мнение уже столкнулось с мнением всех людей, которые сидят в зрительном зале.
Хотя бы потому театр политичен, что много людей по-разному смотрит на одно и то же. В этом смысле чтение книги может оказаться политическим событием, только если мы специально соберём людей на обсуждение. Например, на «Открытые диалоги» в библиотеке Маяковского.
— Их сейчас уже нет, кстати…
— Я и говорю! (улыбается) А если не собрать людей специально, то никто книгу обсуждать и не будет. В этом смысле диалог по поводу книги требует отдельных усилий. Как мы помним, Гоголь написал целую пьесу «Размышления у парадного разъезда»: что говорят люди о премьере «Ревизора»? Даже когда все уже уходят из театра, то ещё продолжают что-то обсуждать. Политическая ситуация.
— Следующая Ваша цитата: «Художник нужен для того, чтобы показать яйца в профиль».
— Вы меня сейчас постоянно цитируете, а каждая цитата — это фрагмент какого-то контекстуального разговора. И это не безусловные максимы и афоризмы, а часть спонтанного дискурса, который не подлежит консервации.
Как Вы помните, в самом начале я противопоставил аналитический образ мышления порождающему. А порождающий образ мышления не самоценен. Когда мы о чём-то болтаем с артистами, это должно там и оставаться. Не потому, что в этом есть какая-то тайна, а потому, что вся эта болтовня предназначена только для того, чтобы потом этот артист вышел на сцену, что-то сыграл, и в этой болтовне мы что-то зацепили, ухватили, поняли. Этот дискурс — трамплин. Да и любая беседа — трамплин для каких-то мыслей, выводов, а не объективное течение важных вещей, каждая из которых имеет право задержаться в истории.
Поэтому что я там говорил про яйца в профиль, убей Бог, не вспомню никогда в жизни! При этом смена аспекта и возможность увидеть что-то под другим углом — это режиссура. Ты позволяешь людям вдруг опрокинуть привычные представления.
— Михаил Патласов, завершая двухдневный фестиваль на площадке «Севкабель-порт», вдруг сказал, что художник должен замолчать. Вы считаете так же?
 — Нет, я так не считаю. Понимаю, о чём говорит Миша, к которому я отношусь с большим интересом и уважением. Он говорит о том, что реальность настолько острая, конфликтная и проблемная, что тебе ничего к ней не прибавить. В этом смысле художник даёт слово реальности.
— Нет, я так не считаю. Понимаю, о чём говорит Миша, к которому я отношусь с большим интересом и уважением. Он говорит о том, что реальность настолько острая, конфликтная и проблемная, что тебе ничего к ней не прибавить. В этом смысле художник даёт слово реальности.
У нас есть проект «Город. Разговоры», который посвящён рассказам людей о том, как они выжили в городском пространстве. В этом проекте замолкает художник и говорит реальность. Но для меня это скорее периферийная история — не в смысле значимости, а в том смысле, что я не полностью себя там ощущаю. Не случайно этим проектом в большей степени как руководитель занимается наш драматург Элина Петрова. Ей молчащий художник очень близок. (улыбается)
Я же считаю, что не художник должен замолчать, а каждый человек должен заговорить. Если просто замолчит художник, от этого самосознание отдельно взятого человека может не мобилизоваться.
Миша говорит как документалист: «Не шуми, дай зазвучать реальности». Я говорю как экзистенциалист: «Мир откликается в ответ на твою требовательную позицию. Откликается когда ты чего-то от него хочешь, когда ты с ним говоришь». Я как художник говорю не потому, что моё высказывание имеет самостоятельную ценность, а потому, что я провоцирую на разговор других людей. Как минимум, актёров на репетиции. Я всё время тереблю их, чтобы в них проснулся не исполнитель, а автор. В этом смысле я счастлив тогда, когда актёры заговорили своим голосом и когда после спектакля заговорили зрители.
Практика показывает, что для начала мне нужно самому сказать что-то раздражающее, резкое, острое.
— Почему так мало людей занимается социальным и документальным театром? В частности, в Питере?
— Как раз в Питере — не так мало. Где-нибудь в Ярославле — меньше. Питер как раз Мекка социального театра. Безусловно, его здесь меньше, чем театра поэтического и литературного, но если посмотреть, как распространён социальный театр в целом по стране, то можно увидеть, что в Петербурге он сконцентрирован в наибольшей степени.
Почему социальный и документальный театры в принципе не очень востребованы? Они небезопасны, энергозатратны и не факт, что гарантированно хорошо получатся. Когда ты берёшь безусловно выдающуюся пьесу, то даже если что-то пойдёт не так, зрители по крайней мере услышат хороший текст. Понятно, что, например, историческая пьеса априори тяготеет к красивым костюмам. И вот мы имеем беспроигрышный вариант: будет на что посмотреть, будет что послушать, актёрам будет что сыграть.
Всё это делает инсценировочную модель театра более востребованной. Кроме того, к этому ведёт многолетняя традиция: театр — это комментарий к литературе. А социальный, документальный театр требует проявленной личной позиции. Понятно, почему ты выбираешь Шекспира или Чехова — история отобрала их из массы литераторов. А почему выбираешь эту тему?
А про кого делать спектакль в документальном театре? Там очень высока доля страха и риска. Это опасно. Люди не любят рисковать. Поэтому социальным и документальным театром занимаются те, для кого риск — нечто искомое, а не то, от чего нужно уклониться.
— В начале 2020 года Вы с некоторым огорчением написали в Фейсбуке, что ни один петербургский театр не предложил Вам сотрудничество…
— Вот «Карлсон Хаус» предложил! С радостью могу сказать, что год прошёл не зря. Мы проводим здесь лабораторию, из которой, надеюсь, вырастет что-то вроде спектакля.
С горечью я говорил по контрасту с 2019 годом. Тогда Театр «На Литейном» предложил постановку, и я с огромной радостью сделал спектакль «Лавр». Благодарен театру и лично Сергею Анатольевичу Морозову за приглашение. Здорово, что ты нужен у себя на Родине. К сожалению, это редкие моменты.
Мы все встречаемся, здороваемся, друг друга ценим. Но коллеги обходятся без приглашения, не ассоциируют меня с собой.
При всём этом я счастливый человек в плане театра. К театральным богам у меня претензий нет.
Интервью и фото: Евгений Веснин
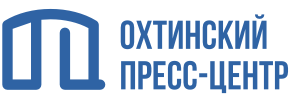

Прокомментируйте первым "Борис Павлович: «К театральным богам у меня претензий нет»"