Доктор искусствоведения, доцент РГИСИ, театровед и театральный продюсер Константин Александрович Учитель рассказывает о собственных театральных проектах, рассуждает о воспроизводстве аудитории, судьбе ярких и свободных личностей, путях развития российской культуры. В беседе принимают участие Евгений Веснин (ЕВ) и Дарья Герцева (ДГ).
ДГ: — Константин Александрович, почему для своего самого крупного проекта Вы выбрали творчество именно Даниила Хармса?
— Потому что я так захотел. Если я скажу, что это один из моих любимых писателей и поэтов, это причина? (улыбается)
Я немножко занимаюсь Хармсом как исследователь. У меня есть тексты, статьи о Хармсе. Когда-то я немного помогал Глебу Ершову и Михаилу Карасику в проведении «Хармс-фестивалей». Одна из моих продюсерских и исследовательских тем — «Хармс и музыка». Это важная часть моей жизни.
Есть личные причины. Ленинград — город маленький. Например, человек, который нёс чемодан Хармса в публичную библиотеку, — выдающийся музыковед Людмила Григорьевна Ковнацкая, научный руководитель моей жены. Я, как и сотни других людей, нахожусь на расстоянии одного рукопожатия от Хармса, одного рукопожатия от Якова Друскина, от Александра Введенского.
Есть ещё одно обстоятельство. Хармс, как и, скажем, Шостакович, как и Ахматова, Малевич — это фигура, в которой сконцентрированы очень многие направления культурной и духовной жизни Петербурга. Хармс — великий писатель и поэт, это само собой. Но через него мы видим огромный спектр авангардного изобразительного искусства. Потому что он посетитель выставок, он друг Петра Ивановича Соколова, Алисы Порет, Сафоновой, Ермолаевой.
С другой стороны, Хармс — меломан и музыкант. Через него мы видим огромный спектр филармонической жизни. Это человек, который дружен не только с братьями Михаилом и Яковом Друскиными, но и с Иваном Ивановичем Соллертинским и с выдающимися музыкантами своего времени.
С третьей стороны, благодаря его записным книжкам, которые в значительной степени стали литературным фактом (как и дневники Кафки), мы видим быт, архитектуру, дыхание, духовный ритм нашего города в двадцатые, тридцатые и начале сороковых годов прошлого века. Это фигура интересна сама по себе, но и круг друзей, круг людей, с которыми он общается, тоже чрезвычайно интересен.
ЕВ: — Чем был так опасен Хармс, что нужно было его сажать?
 — Вероятно, это связано с тем, что все они вызывающе другие. Это вообще история Других. Они свободные люди, несмотря ни на что. Это относится и к Олейникову, и к Введенскому.
— Вероятно, это связано с тем, что все они вызывающе другие. Это вообще история Других. Они свободные люди, несмотря ни на что. Это относится и к Олейникову, и к Введенскому.
Хармс вызывающе одевается — подумайте об этом. Почему его дразнят мальчишки на улице? Потому что он в тридцатых годах одевается как денди дореволюционного периода. Это сегодня мы привыкли, что можно одеваться как угодно. А тогда, в эпоху всеобщей унификации, когда все люди похожи друг на друга, разнообразие одежды заменяет униформа, вдруг мы видим воплощение самостоятельности, свободных суждений.
Странно, если бы этих людей не коснулись репрессии. Потому что они коснулись даже тех, кто искренне верили в эту власть. Есть такое воспоминание. Когда люди в штатском утром ведут Олейникова по улице в 1937 году, тот встречает знакомого. Знакомый понимает характер ситуации, потом следует замечательная фраза: «Ухмыльнулся и всё». Олейников не поражён тем, что с ним происходит. Кстати, он единственный из них член партии, он воевал в Красной армии. В отличие от Хармса, он человек официальный. Наверное, когда-то он разделял коммунистические идеалы, но цену всему этому он знает очень хорошо. Во всяком случае, он вёл довольно сложную игру, понимая и ужас прежней власти.
Есть повесть Лидии Корнеевны Чуковской «Софья Петровна». Это гениальное произведение отечественной литературы, которое, на мой взгляд, нужно включить в школьную программу. Софья Петровна верит, что людей забирают неспроста, наверное, они что-то сделали. А потом её сын попадает в тюрьму — тут-то она и прозревает.
А у Олейникова никакого прозрения нет — он всё прекрасно понимает. Может быть, из аккуратности Хармс не пишет об этом непосредственно в дневниках и не говорит слишком много лишнего — опять же, в силу понимания правил игры. Безусловно, он опасен тем, что всё знает.
Вы спросили, чем опасен Хармс — опасен как свободный человек.
ЕВ: — Почему Вы были недовольны собственным ведением премьерного прогона «Разговоров беженцев»?
 — В спектакле главное — ритм. Не только актёрский, режиссёрский — ритм сцены, но и то, что происходит со зрителем. Ощущение контакта со зрителем и ощущение того, что мы играем как будто в волейбол, в пинг-понг, в шахматы друг с другом — и есть одно из важнейших содержаний театра как искусства.
— В спектакле главное — ритм. Не только актёрский, режиссёрский — ритм сцены, но и то, что происходит со зрителем. Ощущение контакта со зрителем и ощущение того, что мы играем как будто в волейбол, в пинг-понг, в шахматы друг с другом — и есть одно из важнейших содержаний театра как искусства.
Нам было очень сложно, потому что в спектакль вмешивается ритм самого вокзала, ритм города, тех людей, которые едут куда-то на электричке. На прогоне всё это, скорее, не получилось.
В Петербурге мы показывали «Беженцев» семь раз и четыре — в Москве. По мере движения спектакля вперёд в нём очень многое в лучшую сторону изменилось. И всё-таки мы заложники случайностей. Что за группа приехала, кто сидит на вокзале, что показывают по телевизору — всё так устроено, что очень многое зависит от обстоятельств, которыми мы не владеем и не управляем ими.
Помню, что прогон мне не очень понравился. Но это нормально, потому что после этого мы провели большую работу, много чего передумали. Наверное, не повезло тем журналистам и критикам, которые посещали прогон и первый спектакль. Может быть, я чего-то не успел сделать, потому что режиссурой занимаюсь, мягко говоря, эпизодически.
ДГ: — Почему для «Разговоров беженцев» было важно использовать такой нестандартный формат?
 — Эта идея у меня родилась ещё до «Маршрута Старухи». Я очень люблю эту пьесу, много раз её перечитывал, пытался найти к ней какие-то ключи. И потом понял очень важную вещь: во-первых, это в значительной степени не диалог двух персонажей, а диалог философский — человека с самим собой. Во-вторых, эта пьеса затрагивает многие проблемы, которые особо актуальны именно сейчас. Как мне кажется, театральные подмостки и привычная нам сцена всё это в значительной степени скрывают, а не раскрывают.
— Эта идея у меня родилась ещё до «Маршрута Старухи». Я очень люблю эту пьесу, много раз её перечитывал, пытался найти к ней какие-то ключи. И потом понял очень важную вещь: во-первых, это в значительной степени не диалог двух персонажей, а диалог философский — человека с самим собой. Во-вторых, эта пьеса затрагивает многие проблемы, которые особо актуальны именно сейчас. Как мне кажется, театральные подмостки и привычная нам сцена всё это в значительной степени скрывают, а не раскрывают.
Кроме того, у Брехта действие в значительной степени происходит на вокзале города Хельсинки. У нас есть непосредственная связь с Хельсинки — поезд «Аллегро». От Петербурга рукой подать… Да и вообще Финляндский вокзал со всем набором ассоциаций… Напомню, что именно на этот вокзал приезжает Ленин в 1917 году, и там остался фрагмент фасада старого здания вокзала. Напомню, что Брехт из Хельсинки переехал в Советский Союз для того, чтобы пересечь его весь и оказаться в США. Мне кажется, весь этот набор обстоятельств ориентирует зрителя — да и актёра — в другом направлении. Когда звучат тексты об эгоизме, о войне, о природе добродетели, то это должно происходить в невидимом режиме. Мы ведь иногда скрываем актёров, только слышим их голоса. Показываем, а потом удаляем их фигуры, и текст звучит внутри вашей головы из наушников. А иногда мы пытаемся работать непосредственно со зрителем, когда актёры начинают разговаривать словно с человеком, с которым вы случайно оказались рядом в зале ожидания или в купе. Он разговорился и он более откровенен с вами, чем член вашей семьи, в силу того, что он видит вас в первый и последний раз.
Этот эффект показался мне очень содержательным. Повторяю, что эта идея родилась очень давно. Но я понимаю, что никогда не смог бы её осуществить, если бы актёры — Сергей Волков и Максим Фомин — и режиссёр Владимир Кузнецов не стали командой, которая вместе сочиняет.
Это очень длинная пьеса. Несмотря на то, что правообладатели настаивают на том, что она должна исполняться полностью, естественно, мы все четыре часа не освоили. Остался только тот текст, который актёры пропустили через себя, согласились присвоить. В значительной степени выбор текста обусловлен решением самих актёров.
Сцена? Вы говорите: «Это не сцена, это вокзал». Нет, это сцена. Да, сейчас вокзал стал сценой.
ЕВ: — Есть ли опасность, что в спектаклях и перформансах гаджеты могут стать самоцелью?
Я не видел «Другой город», не уверен, что это спектакль, но думаю, что это очень интересное явление. Александровский — вообще очень незаурядный и талантливый человек. “Remote Petersburg” — тоже замечательная вещь. Другой вопрос: насколько это театр? То, что делаем мы, вполне театр. А “Remote” — перформанс про город. Мне всё это очень нравится, мне это близко. То, что делаю я, в чём-то более традиционно.
Я удивлён, что никому раньше не пришло в голову просто надеть на людей наушники и сделать так, что актёр может ничего не играть. Он может работать как в театре, а может — как в кино. Это сильное средство, которое раскрывает новые возможности.
Когда появился электрический сценический свет, в какой-то момент это привлекало аудиторию — цветные лампы. Сколько Скрябин думал о том, как здорово будет увидеть светомузыку? И вот мы имеем её в каждом диско-баре. И что? Сейчас это кого-то сильно «вставляет»? Кто-то испытывает мощное душевное потрясение?
Любое техническое средство в какой-то момент является предметом эстетического освоения, потом профанируется и становится всеобщим, а потом выясняется, что его можно просто использовать в силу своего ума или таланта. В этом смысле наушники и микрофоны в театре дают новые возможности, но будут ли они самодостаточны… Они обладают ценностью в силу того, что актёр может, на первый взгляд, не напрягая свои голосовые связки и речевой аппарат, что-то бормотать под нос, а человек будет это слышать. Тут очень важным становится мастерство звукорежиссёра.
Один из замечательных петербургских композиторов, академических авторов, Анатолий Александрович Королёв как-то мне сказал: «Зачем сегодня осваивать оперную вокальную технику, когда есть микрофоны?» Только в силу следования некоей традиции. Надо было петь громко — и возникла целая культура. А сегодня технологически в этом необходимости нет.
Я думаю, что всё это будет работать, действовать. Будет создано большое количество плохих спектаклей — точно так же, как они создаются традиционными методами.
ДГ: — В каком направлении Вам больше нравится работать: в пространстве традиционного театра или искать новаторские формы, перформансы?
 — В пространстве традиционного театра я никогда не работал. Я не режиссёр по образованию. Я продюсер, театровед. Режиссурой в традиционном театре я, кажется, никогда не занимался — сначала в силу невозможности, а потом стал понимать, что мне интересно заниматься только тем, чем никто иной заниматься не может.
— В пространстве традиционного театра я никогда не работал. Я не режиссёр по образованию. Я продюсер, театровед. Режиссурой в традиционном театре я, кажется, никогда не занимался — сначала в силу невозможности, а потом стал понимать, что мне интересно заниматься только тем, чем никто иной заниматься не может.
Кроме «Беженцев» и «Маршрута Старухи» у меня есть и другие опыты. Мне неловко называться режиссёром, я с большим почтением отношусь к этой профессии.
Что я делал? Например, у нас с Владимиром Кузнецовым есть спектакль, который называется «Александр Введенский. Опыт музыкально-поэтического взирания». Я импровизирую на рояле, а Владимир читает тексты Введенского. Это часовая акция. Это спектакль, но благодаря элементу импровизационности и контакту между нами он больше напоминает инструментальный концерт. Он здесь не только артист и чтец, но ещё и инструмент. Мы попытались музыкально интерпретировать тексты Введенского.
А ещё я сделал акцию, которая называлась «Вечерок памяти еврейского театра». Театра на идише не существует и, видимо, уже не может существовать в нашей стране. Но он был. Были десятки театров. Мы устроили что-то среднее между лекцией и читкой. Всё начиналось с того, что я выходил и читал маленькую гротескную лекцию. «Вы пришли на спектакль, купили билеты? Но билеты недорогие, поэтому никто спектакль показывать не будет. За такие деньги никто не показывает спектакли. Мы вам про это сейчас прочитаем лекцию. А потом будет читка, мы почитаем книжки».
Я редактировал перевод книги основателя еврейского театра Авраама Гольдфадена. Актёры читали эти тексты. На самом деле, они давно их выучили и играли. Грань между читкой, спектаклем и концертом размывается.
Мои хармсовские опыты начинаются тоже не в 2013 году. В 2005 году я провёл акцию, которая называлась «Хармс в Филармонии» с Александром Галибиным. Он читал фрагменты из дневников Хармса, а оркестр играл произведения, речь о которых там идёт. На первый взгляд, это был филармонический концерт. Но, на самом деле, это был спектакль-концерт.
Был и более удачный, очень интересный опыт, о котором я вспоминаю с огромным удовольствием. Актёр Александринского театра Виктор Фёдорович Смирнов читал фрагменты из партийных постановлений, посвящённых музыке Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это было лет десять назад в Большом зале Филармонии с оркестром Мариинского театра. Вот что пишет газета «Правда», а вот о чём она пишет. Конечно, это был никакой не концерт, а спектакль, в котором оркестр в значительной степени исполнял актёрскую функцию.
Сегодня Шостакович стал классиком, мы гордимся им, памятники стоят, и мы воспринимаем эти тексты как что-то невероятное. За что так великого композитора? А вот за что! И правильно! Действительно, его музыка возмущает! «Возмущает» — в самом высоком смысле. Вы спросили, чем опасен Хармс — опасен как свободный человек. Вот и Шостакович опасен тем же. У него бескомпромиссное гражданское высказывание.
Наученный разными опытами, я обнаружил, что, когда оркестр во второй или в третий раз слушает страшные тексты («Сумбур вместо музыки»), он реагирует уже не так. Я пошёл на хитрость: сделал так, чтобы оркестр на репетициях не слышал ключевых слов. Важно было добиться непосредственности реакции. Мне было важно не то, как они играют, а то, как они реагируют.
Многоопытного возрастного актёра, который сам застал 1949 год, я попросил пойти на такую хитрость. Мы договорились, как всё это будет выглядеть. В итоге у людей смычки падали на пол. Музыканты реагировали очень остро — как живые люди.
Это всё я говорю к тому, что есть какая-то зона между концертом, лекцией, читкой, спектаклем, которая всё более отчётливо входит в пространство современного искусства. Мне эта зона очень интересна, я чувствую себя в ней уверенно.
А если говорить о традиционном театральном пространстве… Я бы там делал примерно то же самое! Мне было бы очень интересно попробовать, но, в силу основных занятий, на всё просто не хватит времени.
 А ещё возникает проблема зрителя. Я смотрю на «Беженцев» — наш зритель хорошо подготовлен. Не в том смысле, что он читал пьесу, но он что-то понимает. Ко мне после каждого показа обязательно подходит один человек и говорит: «Я ничего не понял». В начале спектакля есть забавный момент — очень затяжной, он так специально сделан. В этот момент к тебе подходит человек и спрашивает: «Так и будет всё время?! Это что, полтора часа так будет?!» Я отвечаю: «Да, вот так будет полтора часа. Вы, наверное, устали. Если захотите уйти, не забудьте сдать наушники». Я не говорю, что на самом деле будет не так. Этот человек никогда не уходит. Он уже готов на всё. А в конце уже другой человек говорит: «Я думал, прикольно будет… А это же ужас-ужас!»
А ещё возникает проблема зрителя. Я смотрю на «Беженцев» — наш зритель хорошо подготовлен. Не в том смысле, что он читал пьесу, но он что-то понимает. Ко мне после каждого показа обязательно подходит один человек и говорит: «Я ничего не понял». В начале спектакля есть забавный момент — очень затяжной, он так специально сделан. В этот момент к тебе подходит человек и спрашивает: «Так и будет всё время?! Это что, полтора часа так будет?!» Я отвечаю: «Да, вот так будет полтора часа. Вы, наверное, устали. Если захотите уйти, не забудьте сдать наушники». Я не говорю, что на самом деле будет не так. Этот человек никогда не уходит. Он уже готов на всё. А в конце уже другой человек говорит: «Я думал, прикольно будет… А это же ужас-ужас!»
С одной стороны, хороший зритель вписан в традицию: он что-то знает про театр, готов как-то воспринимать спектакль. С другой стороны, он готов на что-то нетривиальное и неожиданное. В этом смысле, для меня поразительно, что самые искренние зрители «Разговоров беженцев» — часто люди очень пожилые. Да, им приходится испытывать физическую нагрузку, но реагируют они всегда очень интересно и живо. Они обладают достаточным опытом, у них есть представление о том, что такое традиционный театр. Они понимают, что «Беженцы» сделаны так не ради пиара или ради выпендрёжа, а это попадание. Мы сделали это потому, что так правильно.
Я удивлён, что никому раньше не пришло в голову просто надеть на людей наушники и сделать так, что актёр может ничего не играть.
ЕВ: — Театральный критик Алексей Киселёв осенью выступал с лекцией в Центре Курёхина и сказал, что определения театра не существует. Согласны ли Вы с ним?
— Театр, зритель, драма — мы так учились у Юрия Михайловича Барбоя, у Бориса Осиповича Костелянца. Наверное, это правильно. Другой вопрос, может ли быть театр без актёра? Значит, что-то становится актёром. Декорация, оркестр… Вы скажете: «Мы так далеко зайдём». Да, но эту функцию что-то несёт.
Сцена? Вы говорите: «Это не сцена, это вокзал». Нет, это сцена. Да, сейчас вокзал стал сценой. Кто здесь актёр, а кто нет? Вы, наверное, не знаете, что мы в «Разговорах беженцев» используем статистов? Среди людей, которые ходят и сидят на вокзале, есть просто пассажиры, а есть специальные люди. Там, где нам не хватает живья, мы его подсаживаем.
Или возьмём «Маршрут Старухи»… Мы много раз проходили этот маршрут ногами, чтобы изучить, как живёт город. Вот сидит нищий возле церкви. Он нам нужен. Не для того, чтобы делать то, что мы хотим. Он нужен потому, что он может делать то, что он хочет. Просто мы можем дать ему десять рублей, а можем не давать. Но он здесь сидит в эти дни и в это время, мы это знаем.
Становится ли он от этого актёром? Да, безусловно!
ЕВ: — Согласен! Вы его вписываете!
— Да, мы его вписываем. Мы изучили среду, и среда начинает играть. Можно обойтись и без актёра, но тогда актёром становится этот нищий. А в «Разговорах беженцев» мы в какой-то момент просто переселились на вокзал. Сначала мы репетировали в Репино в Доме творчества композиторов, а потом переехали на вокзал и стали каждый день там сидеть, есть, пить, жить, в туалет ходить. Мы изучили эту среду и стали понимать, что, например, вот этот полицейский всегда здесь ходит. А вот эта бабушка продаёт цветы, она приезжает вот на этой электричке. Другой вопрос, что люди начинают опаздывать на работу или не приходят на инструктаж. Везде есть свои проколы, бывает.
Я с Алексеем не соглашусь: нельзя без актёра. Просто этим актёром мы можем сделать бармена в кафе или смотрителя в музее. Хотя бы по той причине, что эта пожилая женщина лучше сыграет смотрителя, чем я или Вы — она уже смотритель. Да, мы можем о чём-то попросить, дать дополнительную инструкцию, что-то заплатить или не заплатить. А можем ничего не делать, просто используя это живьё.
Безусловно, и город сам по себе играет. У нас в «Маршруте Старухи» есть трамвай. Если бы я знал, что он просто ходит, я бы его просто использовал. Но приходится его арендовать за немалые деньги. Отсюда у нас появляется бюджет…
Эти вечные разговоры про границы театра… Театр обладает таким свойством: он всё пожирает. Театр синтетичен не потому, что в нём и музыка, и танец, а потому, что театр всё съест. В этом смысле он абсолютно уникален. Появляется видеоарт — театр тут как тут. В своё время появилось кино. Мейерхольд, а вслед за ним Пискатор, Смолич и в драматических, и в оперных спектаклях стали его использовать. Когда сегодня люди начинают что-то делать на экране, мне всегда забавно. Это придумали ещё девяносто лет назад! Теперь можно придумать что-то другое.
ЕВ: — Из Вашего предыдущего ответа я хочу выдернуть одну фразу: «Иногда бывает так, что люди опаздывают на работу или не приходят на инструктаж».
В 2015 году мы сделали большой репортаж о «Маршруте Старухи», который содержал неожиданный комментарий одной из девушек участниц проекта. Девушка заявила нашей корреспондентке: «Я бы хотела выйти замуж, рожать детей и больше никогда не участвовать ни в чём подобном». Как относиться к тому, когда в составе команды оказываются люди, мягко говоря, не разделяющие ваши ценности?
— «Если друг оказался вдруг»… (улыбается)
Скажу две вещи. В «Разговорах Беженцев» мы все из разных театров, все разного возраста. Не забывайте, что у этого спектакля есть продюсеры, звукорежиссёр — все люди из разных мест. У меня есть несомненное ощущение творческого единства. Это маленький коллектив, здесь это достижимо.
Представляете, сколько людей делает «Маршрут»? Около семидесяти человек. Это целый театр. Не всех я знаю, с кем-то просто здороваюсь. Кто-то получает за это символические деньги, кто-то — нет. В значительной степени эта акция как раз и построена на том, что в ней участвуют совершенно разные люди. Здесь нет единой художественной идеологии, это очень важно. Перед режиссёром не стоит задача понять, что делает другой режиссёр. Стоит вопрос координации: это твоё пространство, а это твоё. Я, по мере возможностей, отсматриваю то, что делается, не всё.
Я автор этого маршрута, я его организую. Но я не придумал абсолютно всё, что там происходит. То, что в нём заняты совершенно разные люди, меня не смущает, а, наоборот, радует. Это так сделано.
И вторая вещь. Театр — одно из тех мест, где очень легко создаётся секта. Какой-нибудь довольно харизматичный человек собирает вокруг себя сторонников и появляется в чистом виде секта. Мне это абсолютно чуждо, я думаю, что это просто нечестно. Мне очень нравится, когда те люди, с которыми я сотрудничаю, вместе с которыми мне что-то удаётся делать, при всей любви и взаимном уважении сохраняют внутреннюю свободу. Я это очень высоко ценю. Как только это немножко утрачивается, я чувствую себя неловко.
В оркестре есть два типа дирижёров: «сволочь-диктатор» и «лапушка». Какие-то черты первого могут быть во втором, а второго — в первом. Больше всего мне нравится, когда альтист за третьим пультом делает это потому, что получает колоссальное удовольствие. Я относительно недавно был в Берлинской филармонии на потрясающем концерте. Это бросается в глаза: каждый человек, который сидит на сцене, чувствует себя артистом. На лице у человека написано: «Боже, как здорово, что у меня и у всех нас получается! Я всю жизнь мечтал этим заниматься!» Это ощущение свободного со-творчества: я в ансамбле.
ЕВ: — Вы однажды сказали в интервью, что искренне любите советские песни…
— Любил. Сильнее, чем сегодня.
ЕВ: — Что-то изменилось?
— Контекст. Их все очень сильно полюбили, мне это стало неприятно. Это мои личные песни, и когда народ их очень сильно полюбил, я чувствую себя немножко обескураженным.
ЕВ: — Скажите, пожалуйста, как можно спеть «С чего начинается Родина» без пафоса?
— Как личный исповедальный текст. Вполне. Мои опыты такого рода немногочисленны. Например, я пел «Одинокую гармонь» и рядом «Шарманщика» Шуберта. На фестивале Андрея Могучего мы делали такую штуку между театром и не-театром: я читал «Заметки» из социальной сети «В контакте». Помните, на заре существования этой сети был такой раздел? Свободные рассуждения прозаического характера. Я взял такие эссе самых разных своих друзей из ВК, и получился такой текст. Вместе с коллективом «Борщ-капелла» мы исполняли Шуберта, Десятникова и несколько советских песен.
Это очень интересно. За песнями Блантера, Мокроусова, Дунаевского, Баснера, Петрова стоит колоссальный культурный слой. Некоторое время назад мне казалось, что в этих песнях можно вскрыть подлинные смыслы. Сейчас эта тема закрылась — опять эти песни зазвучали с ложным пафосом и вообще лживо. Поэтому на определённое время — может быть, на десятилетия — они от нас закрылись.
Возвращаясь к Хармсу: я хочу сделать большой музыкальный проект — песни, которые пел Хармс. Хармс пел с Эстер Соломоновной Паперной, с Самуилом Яковлевичем Маршаком, со своими друзьями. Мы попытаемся воссоздать эти песни, надеюсь, с помощью таких музыкантов как Сергей Старостин и Александр Маноцков. Список, который есть в комментариях литературоведа Владимира Глоцера, поражает: поморские, одесские, сибирские, солдатские, хасидские песни, Шуберт, Гайдн, Бетховен.
Когда эти люди собирались на Надеждинской улице, выпивали то ли чай, то ли водку, а потом пели. Представьте себе уровень их музыкального мышления. Представьте себе поморскую песню, которую поют Маршак и Хармс на два голоса! Многие запомнили это на всю жизнь!
ДГ: — Какая Ваша постановка запомнилась больше всего?
— Ещё раз: я ничего не ставил. Кто-то написал, что «Беженцы» — это мой режиссёрский дебют. Наверное, так оно и есть, потому что всё, что было до этого — не спектакли, а что-то вроде. Всё то, о чём я говорил — это поиски где-то рядом. Поэтому кроме «Беженцев» ничего не могу предложить.
А вообще это сложный вопрос… Двенадцать лет назад мы делали такую историю, которая называлась «Бах и Хармс». Там дети играли Баха и читали Хармса. Тот же Владимир Кузнецов тогда был учеником восьмого, что ли, класса. Вот это запомнилось. Как перформанс это нельзя повторить — вещь одноразовая.
У моих друзей композиторов встречается очень распространённый феномен: человек не любит свои старые сочинения в силу того, что любит только последнее. И Введенский так же был устроен — он всё выбрасывал. Хармс собирал, а Введенский выбрасывал. Его интересовало только стихотворение, которое он сейчас пишет или только что написал. У них же не было YouTube и возможности делать видеозаписи. А театр — такая штука, что его ещё и сохранить очень сложно. Как ты его запишешь? Остаются тени, следы.
Это смешно звучит, но у меня есть свои любимые статьи. Есть пара текстов, которые я раз в десять лет могу перечитать, мне нравится. Сейчас я, наверное, так уже не смогу — смогу как-то иначе…
А спектакли уже не существуют. Даже «Беженцы» в каком-то смысле уже не существуют. Мы их в марте будем показывать на «Золотой маске», но они же будут другими! Конечно, мы попытаемся приблизиться к тому, что получалось в Москве… Это очень эфемерное явление, и в этом его прелесть. Запоминается не оно, а какой-то итог, состояние…
Культура живёт и дышит. Очень досадно, что она может дышать и без нас с нашим театром… Хочется, чтобы и мы тоже дышали — вместе с ней…
ЕВ: — Константин Александрович, и последний вопрос. Двадцать лет назад один из моих собеседников, ныне ушедший из жизни, сделал прогноз, который в 1997 году казался малореальным: «В ближайшие годы мы будем видеть примитивную, однобокую, государственно управляемую систему культуры, которая затормозит наше развитие на долгие десятилетия». Согласны ли Вы с этим утверждением?
— В культуре кроме объективных есть и субъективные факторы. Мы говорим: «Куда же делась наша великая дирижёрская школа?» Посмотрите на количество русских дирижёров, в частности, дирижёров петербургской школы, которым сегодня 60, 70, 80 лет. В силу существования у нас кафедры, где работали Илья Александрович Мусин, Николай Семёнович Рабинович, мы имеем Темирканова, Янсонса, Гергиева, Курентзиса, Синайского, Бычкова… Могу продиктовать фамилии ещё двадцати великих, всемирно известных дирижёров.
Сегодня там работают действительно хорошие педагоги, но где же вот это всё? А это очень сложная вещь, потому что кроме педагогов есть сложные механизмы востребованности, динамика развития оркестра и так далее.
Многое должно сойтись — кроме сухого отапливаемого здания, денег — чтобы появился не один Бродский, а Бродский, Кушнер, Соснора, Семёнов, Аронзон… Это не случайность! Чтобы родился Бродский, ничего не надо — это абсолютно точно. Но если бы он был один, понимаете? Гений может родиться в депрессивном моногороде или в глухом селе… Мы же знаем родину Василия Макаровича Шукшина. Он просто спустился туда, его послали знающие люди.
Когда мы говорим о генерации режиссёров… Посмотрите, какое кино снимали в 60-е годы: и Данелия, и Чухрай, и Иоселиани… Это не случайность, а некая закономерность, которая связана и с внутрикультурными факторами, и с общественными факторами, но ещё с какими-то людьми. Был бы Тарковский, был бы Шукшин, если бы не было Ромма? Нет, конечно, были бы, но…
Всё это чётко понимаешь, когда смотришь, например, на мастерскую Вениамина Михайловича Фильштинского. Есть очень талантливые ребята, не очень талантливые, но это статистика. Да, это талантливые люди, но их ещё и правильно учат. Какое-то время это продолжается, и получается статистика.
Очень сложно что-то построить и элементарно просто всё потерять. Достаточно сместить один позвонок: объединить две библиотеки…
ЕВ: — Два факультета ГИТИСа…
— Назначить неправильного человека — элементарно. Чтобы сломать машину, которая работала двадцать пять лет и не будет работать бесконечно. Но ещё лет пятнадцать могла бы потрудиться.
В этом смысле с Вашим собеседником 1997 года я вынужден согласиться, потому что, когда имеешь дело с такими искусствами, как театр, музыка, колоссальная проблема — проблема зрителя и слушателя. С кем ты вообще разговариваешь?
Мои акции рассчитаны на 50, 70, 150, 200 человек. А если говорить про «Маршрут Старухи», который вовлекает тысячи людей — давайте суммируем все концерты, выставки, спектакли, велоквесты, лекции… На самом деле, их тысячи — хотя многие повторяются.
На нашем продюсерском языке это называется «воспроизводство аудитории». Кроме того, что мы можем показывать хорошие или плохие спектакли, показывать выставки, играть концерты, очень хотелось бы, чтобы люди, которые всё это смотрят и слушают, что-то понимали. А это не только наша проблема. Это проблема школы и семьи, в которой есть какие-то установки. Например, борьба за чтение заканчивается тем, что люди вообще ничего не читают. Мне кажется, надо поменьше бороться. Как только мы начинаем говорить: «Надо бороться за нашу классическую русскую литературу», значит, конец всему. Я уже понял, что никто никогда не прочитает многотомник Лескова, что очень досадно, потому что Николай Семёнович — один из самых любимых моих писателей.
Не всё зависит от нас. Мы можем у себя в театре, в театральном вузе или в консерватории чему-то научить; вы можете что-то сказать читателю сайта или газеты, но есть ещё какие-то вещи, которые утрачиваются непоправимо. В том числе просто по недомыслию людей, которые некомпетентны в вопросах культурного регулирования.
Ныне покойный выдающийся театровед Борис Исаакович Зингерман в конце ХХ века написал в одной своей работе примерно так: «Театр, наверное, всё, но вот футбол — очень хорошая вещь. Теперь он вместо театра». Некоторое время назад я тоже так думал. Помните, наша сборная вышла в полуфинал Чемпионата Европы? Теперь смотрим — нет, уже и футбол увял и стал очень скучным. «Не в деньгах счастье». Значит, что-то ещё… Может быть, хоккей? Рэп? (улыбается)
Культура живёт и дышит. Очень досадно, что она может дышать и без нас с нашим театром… Хочется, чтобы и мы тоже дышали — вместе с ней…
Фото: Евгений Веснин
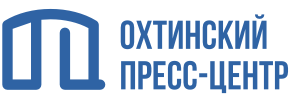






Прокомментируйте первым "Константин Учитель: «Очень сложно что-то построить и элементарно просто всё потерять»"