Кинорежиссёр Иван И. Твердовский в дистанционном интервью Охтинскому пресс-центру рассуждает о выборе профессии, отношении ко ВГИКу, различиях между авторским и коммерческим кинематографом.
— Иван Иванович, в детстве Вы мечтали «стать ландшафтным дизайнером, озеленять промзоны и приводить городские парки в порядок» — это верно?
У меня действительно был такой период: в младшей школе, наверное, понравилось, что есть люди, которые озеленяют территории, делают красивые композиции. Мне это нравилось, я этим увлекался… Но, кроме увлечения, никуда дальше не зашло, слава Богу.
— Это было вызвано желанием сделать окружавший Вас мир лучше? И это стремление Вы наблюдаете у себя и сегодня?
— Ребёнок не осознаёт, что хочет сделать лучше или хуже для мира… Всё зависит от воспитания, от его внутренней повестки. Когда хотел заниматься ландшафтным дизайном, у меня не было такого, что я «хочу спасать мир или вселенную», не было этой повестки.
Сегодня я осознанно воспринимаю свою профессию, как — есть такое ужасное слово — «художник». Оно очень применимо к нашей профессии, потому что мы занимаемся созданием авторского кино, а авторское кино — это в первую очередь предмет культуры, предмет какого-то развлечения, масс-маркета. Это вещи, которые, так или иначе, относятся к работе над нашим внутренним миром, над нашей душой, — там завариваются какие-то процессы. Поэтому, конечно же, как каждому человеку в своём деле, в своей профессии, хочется принести какую-то пользу: как врачи, которые сейчас спасают людей; как пожарные, которые тушат пожары; как полиция, которая, вроде как, должна нас оберегать и спасать от преступности… Мне кажется, что в нашем ремесле тоже необходимо приносить пользу.
— Долго ли Вы пребывали в детских мечтаниях и скоро ли у Вас проснулся интерес к режиссуре? Возможно, деятельность отца-кинодокументалиста сыграла роль в выборе профессии?
— Есть какой-то совершенно неосознанный путь. Если серьёзно, про ландшафтный дизайн я забыл уже, наверное, классе в шестом или седьмом, когда понимал, что для этого нужно, какие школьные предметы у меня должны быть на «отлично», а какие — нет.
Я изначально был гуманитарным человеком: мне очень легко давалась литература, русский, история, иностранные языки, но я совершенно ничего не понимал в точных науках. У меня с этим была колоссальная проблема, я даже занимался с репетиторами, но мне это не помогало, потому что я понимал только тот урок, который был вчера; приходил на следующий и также совершенно ничего не понимал, что там происходит. Шёл к своему репетитору, и мы занимались тем, что он мне ещё раз рассказывал вещи, которые, собственно, были вчера на уроке.
А второй этап в этом смысле, — когда я понял, что я мальчик, что могу пойти служить в армию, я этого не хочу, а очень хочу поступить в институт. Параллельно мне очень нравилось то, чем занимается мой отец, я действительно понимал, что документальное кино — это вообще класс: ты ходишь, наблюдаешь за людьми, ездишь на съёмки, у тебя всё время какой-то праздник, какие-то фестивали, довольно бурная жизнь… Она у моих родителей всегда была такой — довольно насыщенной.
При этом я приходил в гости к своему лучшему другу и видел, как его мама выпахивается с понедельника по пятницу, как в пятницу вечером она хочет выпить бутылочку вина, а в субботу весь день лежит — и это вся жизнь человека! Я понимал, наблюдая за родителями друзей, что мне такой путь совершенно не нравится, мне нужно искать профессии, где я сам свободен, независимо от того, что я делаю, у меня нет графика. Сегодня, например, мне нужно закончить текст — вот пообщаюсь с Вами, сяду за текст. А могу не сесть за него, могу сесть за него завтра, никто не обязывает придерживаться такого графика. Мне это нравилось с детства — когда есть домашнее задание, но ты можешь его сделать, когда захочешь.
Соответственно, я поступил во ВГИК. Когда ребёнок из кинематографической семьи поступает в киноинститут, — а, тем более, во ВГИК — это, конечно же, не случайность, такое очень часто происходит. Назвать это блатом сложно, потому что тебя всё равно проверяют люди с именем. Тогда это был Алексей Учитель — ему что мой отец, что другой отец… Если я был бы совершенным бездарным, то вряд ли бы меня взяли.
Дальше начинает возникать такая история, что ты не чувствуешь себя в этой профессии. У нас очень часто случалось, что на первом курсе ребята, которые со мной учились, понимали, что им это неинтересно, они не знают, зачем это делают, и уходили из этого ремесла. Меня, наоборот, это захватило очень сильно: увлекло, когда я сам начал снимать, когда сам осознанно начал делать учебные работы. Вот там я понял, что это профессия, это круто, и я хочу этим заниматься.
 — Ваша первая работа — дипломная, 2007 года — короткометражка «Святая канавка» повествует о ребёнке, который видел всё, а на самом деле — ничего. Чудесная сказка, так увлёкшая зрителя за девять минут, к его удивлению, рушится. Вам тогда только исполнилось 18 лет — возраст, когда осознаёшь, что детство уже позади, и грустно как-то от этой мысли…
— Ваша первая работа — дипломная, 2007 года — короткометражка «Святая канавка» повествует о ребёнке, который видел всё, а на самом деле — ничего. Чудесная сказка, так увлёкшая зрителя за девять минут, к его удивлению, рушится. Вам тогда только исполнилось 18 лет — возраст, когда осознаёшь, что детство уже позади, и грустно как-то от этой мысли…
— Я Вам сейчас честно могу сказать, что не совсем считаю его действительно своим фильмом. Во-первых, это моя самая первая работа, и она получилась абсолютно случайно, потому что, с одной стороны, у меня был отец, который мне помогал, — техникой и технической базой, то есть камерой, монтажкой и всем прочим, — а, во-вторых, у меня был мастер Алексей Учитель, который смотрел материал и говорил: «Ваня, переделайте», «Ваня, переснимите», «А посмотрите, что вот так лучше, чем вот так». И ты не то, чтобы покорно делаешь всё, что тебе говорят, но действительно в процессе понимаешь, как из сырого, неоформленного камня получается скульптура. Ты только начинаешь улавливать все эти процессы, поэтому то, что эта работа случилась и в моей фильмографии она есть, — заслуга отчасти моя, отчасти — нет. Это такой совместный коллективный труд — моего отца, Алексея Учителя и меня. «Святая канавка» объездила все российские фестивали и много где получала премии как «лучший дебют». Всем нравилась девятиминутная зарисовочка, маленький документальный фильм: «Вот давайте дадим ему диплом».
А вот режиссёр, которому только исполнилось восемнадцать лет и который ездит на кинофестивали серьёзного уровня — куда буквально вчера ездил твой отец, и там все его знают — вдруг получает якобы признание, якобы славу, и это рушится на него, просто сыпется и сыпется… Именно в процессе создания этого фильма со своим мастером и отцом я научился понимать, как из материала получается кино, а ещё — научился понимать, что получаю какое-то количество призов, которые у меня до сих пор дома. Понял, что такое первый успех и слава, чтобы потом уйти в какую-то бездну, из которой ты уже будешь выбираться сам… Мне кажется, что это правильный учебный процесс и тут важен не сам фильм, а то, что с тобой происходит в этот момент как с режиссёром.
— А был ли в этой работе и социальный подтекст, который будет прослеживаться в Ваших работах и дальше?
— Был, потому что девочка была слепой, и мы это видим в самом конце. Но мне изначально был так близок материал, что я смотрел на него через свою призму. Сейчас я, например, могу сформулировать, что мне интересны те темы, мимо которых просто не могу пройти. Ты идёшь по улице и видишь: плохо человеку. Ты можешь пройти и сделать вид, что не заметил или вообще спешишь, а можешь взять и ему помочь. То же самое и в кино: если занимаешься какой-то проблематикой, находишься в ней, то очень важно отдаваться ей до конца, в этом есть определённый социальный контекст, который возникает в наших работах и возникает неслучайно. Наверное, есть какие-то вещи, которые в плане тенденции уже тогда появлялись и прослеживались, но чтобы я в себе это закладывал как-то, артикулировал каким-то образом — такого не было.
— С какими трудностями, чрезмерными ожиданиями Вы столкнулись на первых курсах ВГИКа? В одном из интервью Вы говорили, что в нём разочаровались.
— Разочарование во ВГИКе, — это, скорее, то, что со мной сейчас происходит. Поступил я в 2006 году, и надо сказать, что при всей консервативности этой школы, при всей её неповоротливости, её бюрократии и сложных технологических процессах для того, чтобы сделать что-то своё, снять своё кино, там всё-таки находились люди, педагоги (некоторые из них и сейчас там находятся). Но это было сконцентрированное место, такой творческий класс: там тебе могут дать наиболее актуальные знания в области современного авторского кино — именно авторского — и тебя погружают в контекст современной культуры. Погружаешься ты неосознанно — ты за этим просто идёшь и не отдаёшь себе отчёта, что в этом уже находишься, что ты участник этого процесса…
Всё, что дальше происходило со ВГИКом — это был путь абсолютной консервации, введения цензуры, усложнения тех бюрократических машин, которые уже существовали. То, что мы видим сегодня, и то, что мы видели в 2006 году, — совершенно разные вещи. Могу сказать — как и любой студент своего вуза — когда я учился, всё было гораздо лучше. Я действительно вижу, что наш курс 2006–2011 годов застал последний момент во ВГИКе, когда ты мог действительно получить качественное образование. Именно во ВГИКе, потому что после возникло большое количество частных киношкол. К ним никто не относился серьёзно, но сегодня, например, есть Московская школа кино, Вышка есть (Школа дизайна), где гораздо лучше учат современному контексту авторского кино. Есть ещё огромное количество современных институтов, которые справляются с этим лучше.
 — На Вашем счету множество короткометражек: «Словно жду автобуса», «Болевые точки», «Мирная жизнь». В чём сложность или, наоборот, простота короткометражки?
— На Вашем счету множество короткометражек: «Словно жду автобуса», «Болевые точки», «Мирная жизнь». В чём сложность или, наоборот, простота короткометражки?
— В моей практике была «Святая канавка» — это был учебный процесс. С каждой работой ты ставишь себе творческие задачи, у тебя есть амбиции на фестивальную жизнь, чтобы тебя заметили и дальше привлекли к какой-нибудь серьёзной работе, но, по сути, ты ещё находишься на школьной скамеечке. Дальше у меня был только один профессиональный процесс в короткометражном кино — это фильм «Собачий кайф».
«Мирная жизнь» — благотворительный проект, который мы сделали за очень сжатые сроки, за один съёмочный день. Мне было действительно интересно, чтобы получилась короткая зарисовка как идея. Мне хотелось сделать политизированное кино, которым я никогда не занимался. У меня не было на это возможности в формате полного метра — мне, скорее, это даже неинтересно, — а в формате короткого метра это, как мне кажется, наиболее лаконично. Плюс — были условия, и плюс — была хорошая, правильная задача: этими фильмами мы помогали киношколе «Без границ», которая занимается образованием детей с ограниченными возможностями. Это единственная в России киношкола, которая занимается инклюзией и действительно привлекает в кинопрофессии — в роли актёров, сценаристов, режиссёров — людей со, скажем так, особыми возможностями. Для меня было совершенно важно им помочь, это было в первую очередь важно.
— И всё-таки Вы не до конца ответили на мой вопрос.
— А они очень одинаково существуют — что короткометражный фильм, что полнометражный, — потому что иногда есть такие полнометражные фильмы, которые не надо умещать ни в какой формат: он идёт шестьдесят, или семьдесят, или восемьдесят минут, а там и десять смотреть совершенно невозможно. Или есть картина длительностью три с половиной часа, фильм Лава Диаса, который пять с половиной часов идёт, например, и ты смотришь их на одном дыхании, потому что так выстроен закон картины, что ты это смотришь. Поэтому всё зависит от материала: если он требует определённого метража, то он в нём существует.
Тут очень важно трезво и грамотно подходить к своим возможностям и навыкам. Если тебе кажется, что ты великий мастер, и у тебя есть какое-то полотно на два с половиной часа, то ты должен на экране доказать, что зритель способен два с половиной часа это кино смотреть. Причём зритель не тот, который приходит в кинотеатр как на некое развлечение — так сказать, на порно, — а в моём случае это очень изысканный зритель, который абсолютно владеет контекстом вообще всего современного кинематографа, и ты его уже ничем не удивишь. Ты понимаешь, что должен заставить такого человека от начала до конца посмотреть собственное кино.
 — Театральный критик Роман Должанский разделил режиссёров на четыре типа: первые — те, кто больше думает, чем чувствует; вторые, — кто больше чувствует, чем думает; к третьим относятся те, кто не думает и не чувствует; четвёртые — и думают и чувствуют. Вы бы к кому себя отнесли?
— Театральный критик Роман Должанский разделил режиссёров на четыре типа: первые — те, кто больше думает, чем чувствует; вторые, — кто больше чувствует, чем думает; к третьим относятся те, кто не думает и не чувствует; четвёртые — и думают и чувствуют. Вы бы к кому себя отнесли?
— Ни к кому из этих четырёх категорий, потому что это абсолютно субъективное мнение Романа Должанского, при всём уважении к нему. Я думаю, что он, скорее, больше говорит про театр. Потому что между кинорежиссёром и тем продуктом, который он делает в кинопроизведении, есть большая вакуумная дистанция. Мы показываем свои фильмы без собственного присутствия и никак не взаимодействуем с людьми, которые возникают на экране. В театре всё-таки другое: от очень плотного взаимодействия людей внутри конкретного помещения там возникает настоящая магия, поэтому в театре, наверное, возможно делить на такого рода категории. В кино — нет, потому что иногда ты видишь вещи совершенно обескураживающие и просто безнравственные, но это и является высшим достижением кинематографического искусства.
— Кино в каждой стране частично является портретом её нации: лёгкость и ироничность Франции, где даже трагедия –—не такая уж и трагедия; пестрота жанров американского кинематографа… Как думаете, такие национальные «стили» обнаруживаются и сегодня или это уже прошлый — двадцатый век?
— Я с Вами совершенно не соглашусь, потому что все национальные кинематографии богаты совершенно разным кинематографом. Это очень необъективный разговор, если мы будем говорить, что французское кино прежде всего славится лёгкими комедиями. Есть разные французские картины.
— Понятно, что разные, но в целом некая тенденция наблюдается…
— Если, например, все в нашей стране сегодня занимаются производством коммерческого продукта для платформ типа «КиноПоиска», «ТНТ Премьер» и так далее, то это не значит, что тенденция нашего национального кинематографа несёт исключительно развлекательный жанр. Совершенно нет. Тенденция нашего кинематографа — в первую очередь содержательная. Причём, и советского кино, и российского дореволюционного кино, и российского современного кино. Что в нём было всегда стабильно и неплохо, так это наше авторское кино, и это единственное, что мы можем представить широкой публике в мире и что может показать нас с наилучшей стороны.
Сегодня ни в чём не существует границ, и в последние лет тридцать, а то и сорок не существует — особенно внутри европейских коллабораций — какого-то национального почерка. Это не то что стало не модно, этого просто нет: стёрлось очень много границ, очень много появилось копродукций, где работают люди из разных стран — они разного происхождения, их прабабушки, прадедушки вообще из третьих, четвёртых, пятых стран. Всё это настолько перемешано сегодня в кино…
— В прошлом веке это действительно было более выражено: если взять, к примеру, итальянские фильмы, то в них прослеживаются черты национальной культуры и быта итальянского народа.
— Опять же с Вами не соглашусь. Просто вопрос выборки: если мы говорим про итальянский неореализм, то это одна история, которая произошла исключительно из того внутриполитического контекста, который был в тот момент в Италии. Так же, как послевоенный советский кинематограф сильно отличается от кинематографа периода перестройки. Это совершенно разные вещи, но так или иначе они связаны именно с внутренними процессами. Но я не вижу в этом исключительной национальной истории — это процесс, который происходит в обществе, в этой стране, но именно национального колорита, мне кажется, в этом нет.
— Поговорим о советских фильмах: их любят пересматривать не только бывшие граждане СССР, но и совсем юные зрители. В чём их прелесть?
— В том же, в чём прелесть любого кино. Мы также можем пересматривать огромное количество фильмов, которое снято в мире… Люди смотрят кино потому, что им хочется увлечься какой-то историей. Когда мы говорим про советское кино, то мы в первую очередь владеем языком, на котором говорят все актёры, поэтому нам это интересно, нам это нравится. И есть в этом ретро-эстетика, ретро-стилистика, которая близка нашим бабушкам, прабабушкам, прадедушкам, и есть какое-то внутреннее подключение…
Мне кажется, что нет конкретных причин, из-за которых нам хотелось бы смотреть только советское кино.
 — Существует мнение, что советский и российский кинематограф — словно два разных мира. Что не так с современным отечественным кино?
— Существует мнение, что советский и российский кинематограф — словно два разных мира. Что не так с современным отечественным кино?
— То же самое с американским кинематографом: если мы возьмём картины пятидесятых-шестидесятых годов, а потом откроем современные, то увидим, что что-то случилось и с американским кино! (смеётся) Именно потому, что есть вещи, которые связаны с технологическим прогрессом: мы уже не снимаем на плёнку, у нас есть уже классные цифровые камеры, у нас есть компьютерная графика такого уровня, который позволяет вообще не выходить из дома и создавать кино. Прежде всего, из-за этого поменялись подходы в плане режиссуры, в плане актёрской игры и исполнения. Сегодня мы видим совершенно другую картину: все довольно тоненько существуют, такая вот органика, привязанная к жизни, к какой-то ситуации, и на фоне этого разворачиваются драматические события или, наоборот, комедийные. Мне кажется, это вещи, которые идут своим чередом.
Я точно не из тех, кто скажет: «Советское кино было отличное, шикарное, а то, что производится сегодня в России — полное говно», простите. Конечно, в кинематографе есть огромное количество посредственных, дурацких картин, абсолютно ни о чём вообще. Но когда мы возвеличиваем советский кинематограф, то говорим о лучших произведениях. Так же можно говорить о лучших произведениях российского кино. Не думаю, что они чем-то уступают советскому кино.
— Современное российское кино: возрождение, перерождение или эксперимент?
— Тогда спрошу: какое кино? Если мы смешиваем всё в одну кучу, то не можем ничего вообще подвергнуть анализу. Есть коммерческий кинематограф, есть крупные платформы, сериалы, которые захватывают зрителя и как бы выдёргивают его из кинотеатрального зала, есть по-прежнему авторское кино, есть мощная анимация, которая, например, возродилась и сегодня она в гораздо более лучшем виде, чем пятнадцать лет назад.
Если говорить про авторское кино, то оно потеряло в очень многом, потому что существовать в авторском кино невыгодно никому: это не приносит никакой прибыли, действительно есть ограничения в виде цензуры, поэтому художники не могут раскрываться по полной, как они хотят. Они только некоторое время за что-то пытаются бороться. Если говорить об анимации, то, наоборот, — с приходом новых технологий мы видим, насколько уровень современной российской анимации считается хорошо востребованным в мире; мы видим, что наши российские мультики переносятся на большую кассу… В той же Азии — это какие-то сумасшедшие деньги.
— А в коммерческом кинематографе?
— Про коммерческий сегмент очень сложно говорить, потому что у нас нет таких платформ, как Netflix, например, который уже завоевал рынок. Или как Amazon, который имеет свой крупный сегмент, — они просто внутренней капитализацией победили кинопрокат. У нас по-прежнему кино больше собирает в широком прокате, чем на любой платформе, и мы только на пороге того этапа, когда платформы побеждают кинопрокат. У нас по-прежнему открывается большее количество кинозалов, чем закрывается.
— Корейские «Паразиты» — о классовом неравенстве, «Джокер» — об «одиночке» современного общества, «Левиафан» — о «маленьком» человеке против большой системы… и Ваши работы («Класс Коррекции», «Зоология», «Подбросы») получили всемирную известность. Рецепт международного успеха — остросоциальные темы?
— У Вас странный выбор. Все фильмы, которые Вы назвали, никак не пересекаются в одном сегменте. «Джокер» – это исключительный случай, когда абсолютно коммерческая картина — довольно травматичная для американского общества — попала на конкурс Венецианского фестиваля и получила там «Золотого льва». Это, скорее, исключение, и таких примеров мы знаем очень мало в истории. «Левиафан» — картина действительно большого мастера и художника Андрея Петровича Звягинцева, который был номинантом на Оскар, получил «Золотой глобус» и так далее, поэтому его охват в этом смысле очень широкий.
Я не могу сказать, что уже мастер — я всё-таки ещё молодой режиссёр, при том что уже есть определённое признание моих картин: кинофестиваль в Карловых Варах, кинофестиваль в Торонто, в Сан-Себастьяне и многие другие. Есть ряд фестивалей класса «А», где я получал призы и признание, но всё равно, они были больше сориентированы именно в прокате и позиционированы на рынок Восточной Европы — Чехия, Польша, Словакия, Германия, Россия, Беларусь, Украина, Казахстан и многие другие страны, которые входят в этот регион. Прокат в основном был там — он не был в Америке, не был в Канаде, в Чили, Бразилии и многих других странах. Это всё равно совершенно разные сегменты, при том, что всё это формально можно назвать авторским кино.
 — Классика вечна, потому что вечно современна. Ваши фильмы могли бы стать классикой?
— Классика вечна, потому что вечно современна. Ваши фильмы могли бы стать классикой?
— Не знаю. Для этого есть критики, есть теоретики кино, которые этим занимаются. Я же занимаюсь исключительно своим делом, которое мне нравится… Если бы я задумывал картину с целью: «А вот этот сценарий будет востребованным», «А вот это да!» (смеётся)…
Понимаете, есть вещи, которые бывают откровенными: случается, что совершенно неудачная картина довольно талантливого художника становится очень известной, становится классикой, и её знают очень многие люди. Но есть искусствоведы, теоретики, которые дают понять искушённой публике: «А посмотрите, что ещё делал конкретный художник!» И вы пересмотрите своё отношение: наверное, не будете уже его считать посредственным, потому что вот это известное попсовое произведение не настолько грандиозно, как его остальные картины. Время делает неумолимую вещь: сегодня кажется, что это — хорошо, а это — плохо, а завтра окажется, что всё совершенно наоборот.
— Поговорим о будущем. Скоро выйдет Ваш новый фильм «Конференция». Правда, сюжет его совсем не радостный…
— Совсем не радостный. Потому что это картина, которая так или иначе имеет отношение к событиям террористического акта в 2002 году в Москве, а именно — захват заложников в Театральном центре, так называемом «Норд-Осте».
Тут очень сложная ситуация… Я не могу сказать, когда он выйдет, потому что сейчас, как видите, все планы у всех нарушились совершеннейшем образом. Я не верю, что в двадцатом году картина выйдет, потому что, помимо того, что у нас остановился постпродакшн, ещё съехали все кинорынки, все фестивали… Поэтому все будут выжидать выгодные для себя позиции, мы в том числе.
— В чём заключается сюжет?
Это история про женщину Наталью — в 2020 году уже восемнадцать лет будет с того события, — которая пошла на мюзикл «Норд-Ост» со своим мужем, с маленькими детьми. Произошёл захват, и в самую первую ночь она вышла в туалет, оставив своих детей с мужем в зале. Выводили террористы парами в женский туалет — и женщина перед ней выпрыгнула в окно. Наша героиня последовала за ней и таким образом спаслась, оставив семью внутри. В результате сын погиб вследствие штурма и освобождения заложников, а её дочь и муж выжили. И вот проходит семнадцать лет, она монахиня в монастыре, её благословляют на проведение вечера памяти…
Собственно, картина начинается с того, что она приезжает в Москву, чтобы организовать этот вечер. У нас большая история исследования психологии посттравматического синдрома, и сюжет, как Вы правильно сказали, не из лёгких — довольно тяжёлый.
— Ведёте ли Вы психологическую работу с актёрами во время съёмок с особо тяжёлым сюжетом?
— Не могу сказать, что это легко. Конечно, это тяжело, конечно изматывает… Но это их работа, их профессия. Я им действительно могу помочь, могу поддержать, но не могу сделать за них работу, поэтому довольно требователен в плане актёрского исполнения, довольно предвзят. Всегда делаю очень много дублей, никогда не даю возможности на такие поблажечки, как: «В том дубле была хорошая фраза», «Это возьмём оттуда, а это возьмём отсюда…» — у меня такого никогда не было. Мне всегда нужно, чтобы было несколько мастер-планов, которые устраивают меня во всём.
Я стараюсь помогать своим артистам, но становлюсь всё более и более предвзятым, потому что у меня есть определённый круг актёров, которые мне нравятся. И как бы я ни пытался его пополнить, в последнее время это, как правило, одни и те же люди.
— Какие отечественные фильмы рекомендуете посмотреть во время карантина?
— Не могу назвать подборку, но могу сказать, что мне понравилось из увиденного. В первую очередь это картина Валерии Гай Германики, которая называется «Мысленный волк» — там я вижу развитие её как художника, там очень интересная история с тем, что она практически два раза снимала это кино, что она многие вещи переснимала, добивалась художественного результата, которого ей хотелось добиться, и это есть на экране. Я считаю, это большая, выдающаяся работа для Валерии, совершенно незамеченная в России, к сожалению. Ну как и всё авторское кино, которое здесь пребывает в маргинальной нише, если можно её так назвать (смеётся).
Вторая, как ни странно, довольно консервативная картина Андрея Смирнова «Француз» — он, конечно, выдающийся мастер, режиссёр фильма «Белорусский вокзал», если Вы помните такую советскую картину. Это потрясающий фильм, в котором действительно существует магия — Андрей Сергеевич умеет ею пользоваться и этим завораживает. Что ещё могу назвать… Наверное, «Дылду» Кантемира Балагова: помню, что уже рекомендовал её смотреть, но обязательно после просмотра его предыдущей картины «Теснота». Он как раз интересен как молодой художник, который только начинает свой путь, и его нельзя терять из поля зрения.
Интервью: Марта Марци
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
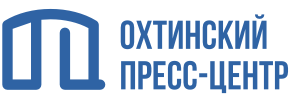

Прокомментируйте первым "Иван И. Твердовский: «В нашем ремесле тоже необходимо приносить пользу»"