Народный артист России Пётр Семак в дистанционном интервью Охтинскому пресс-центру рассказал о съёмках в фильме «Взломщик», роли Ставрогина в спектакле МДТ «Бесы», участии в проекте «НеПРИКАСАЕМЫЕ».
— Пётр Михайлович, я впервые увидел Вас в фильме «Взломщик», где Вы играли антагониста Константина Кинчева — неформала по прозвищу «Хохмач». Расскажите, пожалуйста, о съёмках?
 — Фильм снимался в 1986 году, это было замечательное время.
— Фильм снимался в 1986 году, это было замечательное время.
Самое интересное, что я должен был играть того героя, которого сыграл Кинчев, и уже был утверждён на эту роль. Не помню, каким образом неожиданно возник Кинчев. Скорее всего, с ним встретился режиссёр Валерий Огородников и уговорил сыграть самого себя. Кинчев согласился. Тогда Огородников сказал мне: «Тебе ведь нужно изображать звезду рок-н-ролла, а ему ничего не нужно играть, достаточно быть самим собой». Для меня был придуман персонаж Хохмач, которого я и сыграл.
В фильме есть сцена на квартире, где мы появляемся вместе с Полиной Петренко. В этой компании только я и она были профессиональными актёрами. Все остальные — неформалы, рокеры — играли самих себя. Во время съёмок в диалогах была чистая импровизация, её очень любил Огородников. Он только задавал тему для импровизации и снимал общими планами, не прерывая процесс. Потом делал несколько дублей, отбирал самые удачные ракурсы, крупные и средние планы. А на озвучании уже дописывал сценарий, поэтому записывали мы совсем другие слова.
Помню одного парня, весь лоб у которого был в шрамах из-за того, что он, будто десантник, головой разбивал бутылки. С этим парнем мы на съёмках подружились. Мне захотелось больше узнать про рокеров — они рассказывали мне, что в Ленинград приезжали рок-музыканты из Лондона и сказали, что круче питерских рокеров нет никого. Мы договорились поехать к нему после съёмок, чтобы он показал мне вырезки из газет и журналов. Он предложил сменить причёски, разгладив наши панковские «ирокезы». Когда я возразил, дескать, причёски же крутые, он ответил: «Ты чего, менты же сразу остановят!» Он смешно разгладил свой хохолок в обе стороны, получилась вполне стандартная причёска.
Когда мы приехали к нему на квартиру, я очень удивился тому, что он оправдывался перед папой и мамой как подросток. Его строгие родители дотошно расспрашивали: «Где ты был? Что ты там делал?» А он показывал, какой он послушный сын. «А это кто с тобой?» — «Это мой друг, артист». Потом он у себя в комнате шёпотом, чтобы родители не слышали, рассказывал мне про рокерское движение, показывал статьи. Уже не помню ни его имени, ни прозвища.
 — В следующий раз я увидел Вас уже в «Бесах». От Вашей фразы «Проклятый философ» даже через двадцать с лишним лет бегут мурашки по спине. Как Вы погружались в эту роль, как добивались вовлечённости?
— В следующий раз я увидел Вас уже в «Бесах». От Вашей фразы «Проклятый философ» даже через двадцать с лишним лет бегут мурашки по спине. Как Вы погружались в эту роль, как добивались вовлечённости?
— Мы очень много и долго репетировали. Больше трёх лет занял процесс от начала репетиций до выпуска спектакля. Мы начали в начале 1988 года, а премьера была, если я не ошибаюсь, в ноябре 1991-го. Это было серьёзное погружение в материал.
Вы, конечно же, знаете метод репетиций у Льва Абрамовича? Он даёт многим попробовать много ролей. Потом я подсчитал: за эти годы ролей двенадцать перепробовал. Очень мне нравился Федька Каторжный — его в итоге сыграл Игорь Скляр. Игорь же долгое время репетировал Ставрогина — около года. До него Ставрогина гениально репетировал мой однокурсник Володя Осипчук, царствие ему небесное. В 1990 году, в возрасте 30 лет он погиб. В его Ставрогине была такая болезненность, такой надрыв, чувствовалась пропащая душа…
Сначала Лев Абрамович репетировал блоками, а потом решил, что нужно сыграть весь роман — от начала и до конца. У нас был и такой опыт: он дал нам месяц.
Представьте, что мы при этом существовали в режиме областного театра, у нас были выездные спектакли во всех крупных городах и посёлках Ленинградской области. Помню, что по плану мы должны были вывезти и сыграть на площадках клубов и домов культуры 120 спектаклей в год.
При этом мы репетировали новые спектакли, при этом шли спектакли в городе. Даже если мы что-то играли в области, то ежедневно какой-то спектакль шёл и на нашей площадке на Рубинштейна. Это были колоссальные нагрузки. Когда я сейчас это вспоминаю, то понимаю, что такое можно выдержать, только когда тебе двадцать с небольшим, тридцать лет.
Итак, Лев Абрамович дал нам месяц на то, чтобы сыграть весь роман. При этом мы успевали репетировать отдельные сцены. Конечно, это были преимущественно импровизации, но мы сыграли роман целиком. Начали мы в 11 часов, были небольшие перерывы на чай и туалет. Примерно во время сцены, когда Кириллов стреляется, мы услышали стук в микрофон — Лев Абрамович засыпал. Представьте себе: пятнадцать часов идёт импровизация. В молодости он был двужильным, мог сидеть по восемь часов без перерыва. А тут через пятнадцать часов он сказал: «Ребята, извините, я больше не могу».
Погиб Володя Осипчук. Начались поиски Ставрогина. Пробовали Игорь Скляр, Володя Захарьев, Серёжа Курышев. Но Додина всё время не устраивало. Он вообще долго выбирал исполнителей мужских ролей, особенно главного героя, всегда были конкурсы. На этот раз он долго не мог найти Ставрогина.
Я к тому времени перепробовал роль Липутина, эпизодические роли, хорошо репетировал Варвару Петровну, маму Ставрогина. Тогда заболела Галина Ивановна Филимонова, а никто из девочек не хотел подыгрывать. Все устали и понимали, что никому из них эта роль всё равно не достанется, когда выйдет Филимонова. Тогда я вызвался сам. Льву Абрамовичу это так понравилось, что целый месяц, пока Галина Ивановна была в больнице, я прекрасно репетировал Варвару Петровну. А он меня хвалил и говорил: «Смотрите, как Петя всё правильно делает: не наигрывает, очень подлинно существует на сцене».
Ближе к премьере снова возникла проблема со Ставрогиным. Додин был недоволен и Игорем Скляром, и Серёжей Курышевым. Я случайно возник в этой роли. Он предложил: «Можете попробовать?» Я и попробовал.
Мне было непросто. Но, видимо, благодаря тому что я хорошо знал весь роман, перепробовал много ролей, многое понимал про самого Ставрогина, я влетел в него. Поначалу Лев Абрамович говорил: «Хорошо, правильно». Потом наступил период, когда всё не так и всё неправильно: «Вы ничего не понимаете». Дошло до острых моментов, когда я уходил со сцены и хотел уйти из театра, но чудом не ушёл.
Всё рождалось тяжело, с конфликтом. Когда мы сыграли премьеру, это было не то, чтобы плохо, — мы сами не понимали, что получилось. Такого опыта не было ни у кого, в том числе, у самого Льва Абрамовича. Представьте себе: целый день играть «Бесов»! Как выдерживает психофизика актёра?
Мы играли премьеру в Германии. Немцы как-то это высидели, но было понятно, что им это тяжело. Потом сыграли дома, получили противоречивые отзывы: да, интересно, но очень затянуто.
В те годы, особенно на выпусках спектаклей, Лев Абрамович сильно подавлял инициативу актёров. Все начинали выполнять его указания и стараться — стараться до такой степени, что аж противно. Наверное, так сильно старались, что это передавалось зрителю. Прошёл год, прежде чем он перестал на нас давить.
За три года репетиций Лев Абрамович тоже устал. Иногда репетиции вёл Эдуард Кочергин. Приходил композитор Олег Каравайчук, который говорил: «Лёва, ну зачем тебе эти артисты? Посмотри, как они ужасно, отвратительно играют! Смотреть невозможно! Моя гениальная музыка, гениальная сценография Кочергина, всё двигается — и не надо артистов! Не выпускай их на сцену!» (смеётся)
Сейчас это звучит как анекдот, но так было! Я ничего не прибавил и не приукрасил.
Когда Каравайчук в первый раз пришёл в театр на репетицию, его не пускали. Звонила вахтёрша и говорила: «Тут пришла какая-то бомжиха и спрашивает Льва Абрамовича».
Первый год после премьеры Додин не мог смотреть спектакль. Он был уверен, что это провал, что всё ужасно плохо. И когда он от нас отстал, мы целый год играли сами по себе. На нас никто не давил, мы почувствовали свободу, почувствовали зрителя. Труппа всё-таки не бездарная — за счёт темпоритма мы сократили спектакль, стали играть быстрее, легче и подвижнее.
Через год Лев Абрамович пришёл на репетицию и, посмотрев первый акт, который идёт три часа, сказал в микрофон совершенно детским голосом: «Спасибо! Спасибо!» Он был потрясён и не ожидал, что так может быть.
С этого момента спектакль пережил второе рождение. От раза к разу он становился не хуже, а всё лучше и лучше. Такую высокую планку мы держали очень долго. Мы очень любили этот спектакль. Многие росли в своих ролях и вырастали.
Это были прекрасные годы. Мы пережили погружение в мир Достоевского, в его понимание России, русского характера.
 — Почему Вы так хотели сыграть Ставрогина?
— Почему Вы так хотели сыграть Ставрогина?
— Сначала я был уверен, что не смогу его сыграть. Я играл обаятельных, наивных, трогательных простачков. Я был парнем «от земли», это выдавало меня на сцене: искренность, простота. Я не дворянских, не аристократических кровей — чувствовал это в самом себе. Но, как уже говорил, когда мы всё больше погружались в эту тему и когда в 1990 году не стало Володи Осипчука, я стал задумываться, а не попробовать ли мне.
В итоге я захотел. И предложил Льву Абрамовичу показать мою любимую сцену с Тихоном. Вопрос со Ставрогиным был открыт. Он тогда даже сам говорил: «Кто хочет сыграть Ставрогина, делайте предложения, а я посмотрю». Он торопился, уезжал за границу и в ответ на моё предложение пообещал: «Да, я обязательно посмотрю, когда вернусь».
Через месяц он вернулся и даже не вспомнил об этом. А я напоминать не стал, я не из таких людей. И про себя подумал: «Наверное, он ответил мне из вежливости. Ну, какой я Ставрогин!» Я уже перестал об этом думать, решил для себя, что буду играть Федьку Каторжного, очень хорошо его репетировал. А потом он сам подошёл со словами: «Я вспомнил, Вы хотели показать». Я уточнил: «Сцену с Тихоном?» Он говорит: «Нет, покажите завтра весь первый акт». Я поразился: «Да как же я выйду и сыграю три часа? Там Ставрогин со сцены не уходит!» Он ответил: «Вы же видели все репетиции. Сымпровизируйте!»
Я сел в гримёрке и всю ночь проходил сцену за сценой. Не знаю, сколько раз за ночь прошёл все сцены, но что-то во мне отложилось — текст, логика и, конечно, ужас. Как я выйду? Но я вышел и три часа импровизировал. Где-то сбивался с текста и говорил своими словами, но эти три часа как-то сыграл.
На этой репетиции я вдруг почувствовал, что могу. Я поверил в себя, как это иногда важно актёру. Для меня это был поворотный момент. Казалось, что это вообще не моё, и мне всегда будут давать роли попроще. Но я почувствовал природу Ставрогина, его «пропащую душу». С этого всё и началось.
— Неужели Вам с учётом внешности не предлагали роли роковых, даже демонических персонажей? Возможно, отрицательных?
— Ещё в институте, в дипломном спектакле я играл Митю Карамазова. Не могу сказать, что он демонический. Ну, греховный, грешный…
С моей внешностью в кино мне предлагали отрицательных героев. Но не демонических! Хотя снимался я немного.
А в театре — только Ставрогин.
— Вы рассказывали в одном из интервью, что в конце 80-х годов худсовет «завернул» Вас из-за чёрных волос.
— Да, так и было. В 1988 году Сергей Колосов и Людмила Касаткина запускали телесериал «Радости земные» из шести серий. Меня почти утвердили, я понравился Касаткиной, которая играла главную роль, и должен был играть её сына. Вдруг я не прошёл худсовет Мосфильма. Колосов откровенно сказал мне, что не может ничего сделать: «Я так хочу тебя, но худсовет не утверждает, потому что ты очень чёрненький». Гримёры предлагали меня высветлить, но ничего не помогло. Скорее всего, там была ещё какая-то интрига. Да, типажно я был другой.
Смешно, что в первой серии героиню Касаткиной в молодости играет моя однокурсница Анжелика Неволина. Молодая «как бы Касаткина», которую играет Неволина, в эвакуации во время войны рожает сына. А находится она в Молдавии. «Представляешь, — говорит мне Колосов на полном серьёзе, — зрители подумают, что она родила от молдаванина». Он всерьёз об этом думал. (смеётся)
Я спрашивал Галендеева, почему меня взяли в ЛГИТМиК. Я ведь приехал поступать в артисты из Харьковского института, из «музычно-драматычного театру». Был очень зажат, ужасно волновался. Это вообще моя проблема: я иногда так волнуюсь, что волнение переходит в минус и не помогает, а мешает. А он мне говорит: «Помнишь, ты молдавский танец станцевал?» А я помню, да. Тогда уже музыка закончилась, а мне говорят: «Танцуй дальше!» И я долго танцевал, как-то импровизировал. В итоге Валерий Николаевич мне объяснил: «Ты раскрылся в молдавском танце». До сих пор не могу понять, он это всерьёз сказал или пошутил… (смеётся)
Видите, тогда молдавский танец мне помог, а в кино Молдавия меня подвела. Не утвердили меня.
— И при этом Вы азартный человек?
— Да, очень.
— И в казино раньше любили играть?
— Да, лучше это не вспоминать. Столько страстей и денег…
Всё начинается с чего-нибудь невинного. И пошло-поехало. А потом ты превращаешься в игромана и не можешь согласиться с тем, что ты зависим. Любая зависимость — это болезнь, её нужно лечить. Ничего хорошего в этом азарте нет, одни проблемы.
— Вы не раз говорили в интервью, что очень цените Шекспира, с удовольствием участвуете в постановках по Шекспиру, больше того, готовы на любые условия. Почему он так для Вас важен?
— Вы слышали хоть одну лекцию Черниговской? Умница, замечательная женщина, знающая, о чём говорит, умеющая ставить вопросы. Почему я люблю и Шекспира, и Достоевского — я не умею так ставить вопросы. Иногда пытаюсь разобраться в себе, но путаюсь, потому что не могу определить, в чём дело.
Есть вопросы без ответов. А ты всё равно упорно пытаешься их найти, потому что живой человек. Ты живёшь, а вопросы не разрешаются. Путь разгадывания бесконечен: кто мы, зачем мы на этой земле, что такое вообще существование человека? Чего ты сам хочешь от жизни: ты мыслящий творческий человек или просто хочешь заработать побольше денег и развлечься, поесть, поспать? Что такое творчество и нужно ли оно человеку? Знаете, как у Паскаля: «Если бы человек не знал, что такое счастье, то был бы счастлив в своём несчастье. И наоборот: если бы он постоянно был счастлив и не знал бы несчастья, то не мог бы его ценить».
— В 2011 году Вы сказали в интервью: «Много лет мы все уговариваем Льва Абрамовича поставить что-нибудь весёлое, какую-нибудь комедию или водевиль. Он всегда спрашивает: разве жизнь так уж радостна? С годами я, похоже, всё больше его понимаю…»
— Он говорил: «Вы же понимаете, что я из любой весёлой истории сделаю трагедию?» Он не умеет этого делать. Наоборот, в трагических историях он находит юмор.
Несмотря на всю драматичность показанной в «Братьях и сестрах» жизни архангельской деревни, сколько юмора там заложено! И в «Бесах» он есть.
Да, он такой человек, он не может относиться к жизни только с юмором.
 — А в чём заключается Ваше понимание?
— А в чём заключается Ваше понимание?
— Тут странная вещь: я его и раньше понимал. Ещё в институте над нами ставили разные опыты, мы заполняли анкеты и даже получали за это небольшие деньги. Сейчас бы это назвали тестами. Однажды на втором курсе в такой анкете попался вопрос: «С кем Вы хотели бы работать после окончания института?» Я тогда ответил, что очень хотел бы работать со Львом Абрамовичем Додиным. Галендеев засмеялся и сказал: «Так у него нет театра!» А я ответил: «Будет! Обязательно будет!»
Ровно через два года, когда я окончил институт, у него был театр. Поначалу он меня не очень жаловал, ещё в институте, и я был уверен, что он меня не возьмёт. Меня уже брали в Ленком, сейчас это Балтийский дом.
По распределению после института я должен был поехать в Омский драматический театр. Ехать туда я не хотел, поэтому показывался и Владимирову, и в Москве мы с моей однокурсницей Леной Кондулайнен шерстили по многим театрам. Владимиров говорил: «Приходи осенью!» Но осенью меня бы забрали в армию. Кроме того, у меня не было прописки и негде было жить. А в Ленкоме мне сразу сказали, что дадут и прописку, и комнату.
Я уже подал документы в Ленком, когда случайно, чуть ли не на улице, встретил Льва Абрамовича, который заинтересовался моими делами. Узнав, что я устраиваюсь в Ленком, он воскликнул: «Как туда?! Срочно в Малый драматический!» Я удивился: оказывается, он ко мне хорошо относится!
В итоге в Малый драматический пришли только мы с Володей Осипчуком. Только когда загремели «Братья и сёстры», все поняли, что театр под руководством Льва Абрамовича — это театр. Естественно, начались поездки, в том числе заграничные. Только тогда в театр пошли и другие актёры.
— Скажите, как это — «сыграть уставшего Смоктуновского»?
— Это был неудачный эксперимент. Мы долго искали Вершинина из «Трёх сестёр», и Лев Абрамович высказал очень красивую формулу: «Почему Вершинин? Он на вершине отчаяния». Как сыграть отчаяние? И вдруг он подсказал: «Знаете, когда Эфрос собирался ставить “Три сестры”, то говорил, что для него Вершинин — это такой уставший Смоктуновский». Эфросу это очень понравилось, тот решил, что Вершинин должен быть таким. И Льву Абрамовичу это нравилось.
Помню, что мы начали серьёзно искать уставшего Смоктуновского: вплоть до его пластики, до повадок. А потом, уже на выпуске, стало понятно, что это не работает. Не соединяется с самой драматургией Антона Павловича. Или пришлось бы переделывать всех персонажей, потому что всё взаимосвязано. Если где-то идёт перекос в одну сторону, значит, должно перекоситься всё здание. Когда же перекошена только одна стенка, это выглядит довольно странно.
В итоге мы вернулись к тому, что если отчаяние и есть, то оно внутри. А внешне, по форме он, прежде всего, военный человек, который привык жертвовать собой ради других. Даже ради будущих поколений. И собой, и своими подчинёнными.
— Вы действительно могли бы сыграть князя Мышкина?
— Сейчас, конечно, уже нет. А раньше, особенно после «Бесов», я это чувствовал. Да, мог бы сыграть. Но, видите, не случилось.
Как точно сказала Раневская: «Кладбище несыгранных ролей». Это правда.
Однажды я случайно узнал, что Эфрос увидел меня с Наташей Акимовой в пьесе Червинского «Счастье моё» и предлагал Льву Абрамовичу поставить «Ромео и Джульетту» с нами в главных ролях. Но этого не случилось. К сожалению…
У меня есть идея, — возможно, я её осуществлю — сделать аудиозаписи некоторых сцен из этого романа.
Расскажу одну гениальную историю про великого чтеца и артиста Яхонтова. К нам на курс ходила великий завлит БДТ Дина Морисовна Шварц. Я не знал, кто она такая, вообще понятия не имел. А она любила поговорить со мной после занятий, иногда мы вместе ходили до метро. И вот она рассказала…
До войны она была молодой студенткой и любила ходить в Филармонию на чтения Яхонтова. В тот вечер он должен был читать главу из «Идиота» про Настасью Филипповну. Им объявили, что начало задерживается, потому что Яхонтов неважно себя чувствует. Зрители не расходились, ждали. Вдруг она увидела, что возле одной из колонн стоял Яхонтов, дрожащими руками очищал мандарины и с жадностью поглощал их дольки.
«Тогда я не догадалась, в чём дело, — говорила мне Дина Морисовна. — Много лет спустя я поняла, что он был, скорее всего, с большого бодуна». Спектакль задерживали, а он цитрусовыми снимал мандраж. Потом он вышел на сцену, сел в кресло и, сидя, настолько завораживающе читал, что оторваться было невозможно. Он нарушал все законы игры на сцене. Неподвижность, завораживающий голос, интонации, передача характеров, напряжения, атмосферы — только голосом. И глазами, конечно.
Галендеев однажды сказал моему однокурснику Коле Павлову: «А теперь, Коля, надо излучать». Как возникает излучение — самое интересное в этой профессии? Как актёру научиться излучать?
Когда Дина Морисовна рассказывала мне об этом, я был потрясён. Вот так бы научиться! Тогда можно не только князя Мышкина, но и многое ещё сыграть.
— Однажды Вы сказали, что Вы везде чужой и только в театре свой. Со второй частью понятно, а могли бы Вы пояснить первую?
— Наверное, я имел в виду, что в кино у меня не складывалось, так и не сложилось. Хотя я больше мечтал именно о кино. И в театральный институт поступал — сначала в Харькове, потом здесь, потому что мечтал о кино. А ещё потому, что институт назывался ЛГИТМиК: Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Думал, что буду в кино сниматься. Но в кино не сложилось.
В театре сложилось, да. Болезненно, трудно. Не могу сказать, что легко. Но я всё-таки больше театральный актёр.
— Эту фразу можно понимать только в таком смысле? А не в том, что, например, Вы ищете свой дом?
— Дом у меня был. Он и остаётся моим домом. Вряд ли я найду какой-то другой. Сейчас я служу в Александринке. Но не могу сказать, что это мой дом. Это совершенно другие отношения, совершенно другого качества.
Почему дом? Это была отправная точка, в которой собрались единомышленники. Тогда мы были фанатиками. Энтузиастами, которые начинали большое дело. Мы многого добились.
А когда просто приходишь в театр… Не знаю, что должно случиться, чтобы он стал домом… Наверное, это бывает раз в жизни.
— Вашим домом был МДТ?
— Да. И остаётся. Родительский дом ведь тоже остаётся домом. Я отношусь к этому именно так. Ты делаешь там первые шаги, там взрослеешь, уходишь оттуда. Но твоим домом он остаётся.
 — Михаил Патласов когда-то рассказывал мне, что для него много значит поиск своего дома и страх его потерять. Во многом поэтому он взялся за «НеПРИКАСАЕМЫХ». А почему Вы стали участвовать?
— Михаил Патласов когда-то рассказывал мне, что для него много значит поиск своего дома и страх его потерять. Во многом поэтому он взялся за «НеПРИКАСАЕМЫХ». А почему Вы стали участвовать?
— Даже не знаю. Что-то меня зацепило, когда я впервые смотрел спектакль в бывшем кинотеатре «Спартак». Театр без наигрыша — мне захотелось попробовать в этом себя. К тому же, сам Миша интересный человек.
Не могу сказать определённо, почему. В моей жизни было тогда непростое время, много чего произошло, в том числе трагичного. Мне хотелось что-то выплеснуть из себя, высказаться о чём-то.
— Почему Вашим персонажем стал именно бездомный среднеазиатский философ?
— Это вышло случайно. Мы с Мишей пошли на встречу с участниками спектакля, там был и Мир Зафар. Я слушал его очень внимательно. Хотя у Миши многие бездомные играли, было понятно, что сам этот человек не сможет выйти на сцену. Тогда у нас с Мишей и возникла эта идея.
— Когда Вы читали его монолог, то на себя примеряли его историю?
— Конечно, примерял. Мы всё на себя примеряем, все истории. Когда репетируем, играем, то все истории, все судьбы примеряем на себя — а как по-другому? По-другому невозможно. Если ты ничего не примеряешь, то просто наигрываешь, кривляешься. Это совершенно другой театр.
Это и есть то, что называется перевоплощением. Но все эти определения очень приблизительны. Даже сам Станиславский понимал, что его система очень приблизительна. Сам процесс игры, когда я — это кто-то. Всё очень индивидуально. Каждый актёр — это собственная система, потому что мы все разные. Но принцип один — это желание примерить на себя чужую судьбу и воплотить её, то есть стать кем-то. И прожить эту чужую судьбу.
— Ещё одна цитата из интервью, на этот раз 2005 года: «Вся наша профессия замешана на успехе. Нет успеха — нет актёра». Как считаете, есть успех?
— Сегодня есть, завтра нет. Другая беда — когда его очень долго нет. Вот тут многие не выдерживают, многие вообще ломаются, погибают.
Без успеха, без понимания, без спектаклей и ролей, без кино, без зрителя, без отзыва, без отклика ты чахнешь. Твой талант усыхает, он не развивается, а только деградирует.
Когда я узнал историю жизни актрисы Валентины Караваевой, она меня потрясла. Был такой фильм «Машенька», где она сыграла главную роль. Во время войны, когда начались съёмки фильма «Небо Москвы» она должна была сыграть главную героиню, сниматься вместе с Петром Олейниковым. Она ехала на съёмку, попала в аварию и разбила себе лицо.
Она любила играть, почувствовала славу, известность, её обожал весь Советский Союз. Но она не могла сниматься. После войны вышла замуж за английского атташе, который увёз её в Англию. Там ей сделали пластическую операцию и убрали этот ужас на её лице.
Она мечтала вернуться. Муж уговаривал не делать этого, потому что ещё были сталинские времена. Но в Англии она не могла себя реализовать. Балерина или музыкант могут без проблем реализоваться за границей, а она не знала язык. И она вернулась. Муж дал ей ампулу с ядом, чтобы она приняла в случае, если её арестуют.
Всё обошлось. Но её не стали снимать в кино, в театре она играла маленькие роли. Сняли её только один раз, в старом фильме по пьесе Шварца «Обыкновенное чудо», где короля играл Эраст Гарин. В том фильме у неё была довольно большая роль, но это был последний раз.
Она умерла в 1997 году. Её обнаружили случайно, в одиночестве, в маленькой однокомнатной квартире в Москве. После смерти у неё нашли плёнки, на которые она снимала себя в течение почти тридцати лет в роли Нины Заречной. По этим плёнкам было заметно, как она старела. А ещё — аудиозаписи на магнитофоне. Можно было проследить, как менялся её голос, как он грубел.
Конечно, она жутко страдала — и от одиночества, и от того, что была никому не нужна.
Это всё к ответу на Ваш вопрос об успехе…
Интервью: Евгений Веснин
Фото: кадр из фильма «Взломщик», Виктор Васильев, на обложке — Катерина Кравцова
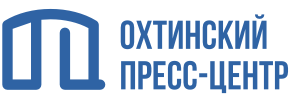

Прокомментируйте первым "Пётр Семак: «Все истории, все судьбы мы примеряем на себя»"