В театре «Мастерская» в конце сентября прошли премьерные показы моноспектакля «Преступление и наказание» по роману Фёдора Михайловича Достоевского.
 Думаю, что, разрешив писать о вещах, связанных с Фёдором Михайловичем, мне развязали руки в отношении пристрастия к философии и богословию. Я по-родионовски не верю в то совпадение, что это именно моноспектакль, избавляя себя и читателя от одних и тех же пассажей о «персонажах-двойниках», «географии романа» и прочего культурологического полуфабриката. Я воспринял это как знак и хочу зацепиться за спрятанное у всех на виду, которое все замечают, но никто не хочет увидеть. Кто из нас не пролистывал страницу-другую, пропуская внутренний монолог Раскольникова? Сколько огоньков в глазах погубили сочинения на тему «Главная идея романа»? Основной посыл порой так явно лезет в лицо, что приходится отмахиваться от его назойливости, как от зудящего ночью над ухом комара. А в чём он заключался, этот посыл, — кто ответит без заученных формулировок? И я не буду.
Думаю, что, разрешив писать о вещах, связанных с Фёдором Михайловичем, мне развязали руки в отношении пристрастия к философии и богословию. Я по-родионовски не верю в то совпадение, что это именно моноспектакль, избавляя себя и читателя от одних и тех же пассажей о «персонажах-двойниках», «географии романа» и прочего культурологического полуфабриката. Я воспринял это как знак и хочу зацепиться за спрятанное у всех на виду, которое все замечают, но никто не хочет увидеть. Кто из нас не пролистывал страницу-другую, пропуская внутренний монолог Раскольникова? Сколько огоньков в глазах погубили сочинения на тему «Главная идея романа»? Основной посыл порой так явно лезет в лицо, что приходится отмахиваться от его назойливости, как от зудящего ночью над ухом комара. А в чём он заключался, этот посыл, — кто ответит без заученных формулировок? И я не буду.
Вместе с осуждённым мы смотрим с высоты эпилога на всё произошедшее в книге, оказываемся как бы в прямом эфире его внутреннего диалога. Во внутренней камере гораздо страшнее, чем на каторге, где, укрывшись стенами острога, можно просто работать и не думать, просто падать от истощения, чтобы вновь повторить этот цикл. Это привилегия — никогда не думать перед сном, никогда не спрашивать себя: «Зачем?». Нет, он заперт в окружении огромных подвешенных к потолку ржавых зеркал, где негде спрятаться и некуда бежать. Вытолкнутый зеркалами с одной стороны и нашими пытливыми взглядами — с другой, Родион Романович, в исполнении Никиты Капралова, бродит взад-вперёд на этом «аршине сцены над пропастью», но что в этой пропасти? Самое страшное, чего больше всего боится человек, — неизвестность, новое слово, новый шаг. Даже ад страшен не столько знакомыми муками, но незнакомой вечностью.
 Искать ответ на вопрос: «Что такое хорошо и плохо?» — дело совершенно неблагодарное. В каждом взгляде, бегущем по этой строке, читается заранее подготовленный и отточенный ответ. Не менее пошло звучит и вопрос: «Оправдывает ли цель средства?», ответ на него мы даём себе каждый раз, заглядывая в новостную сводку. Кто решает, что мне можно, а чего нельзя? Если весь мир, как заявляют напыщенные скептики, такой «серый» и неоднозначный, если нет в нём абсолютных зла и добра, то кто сказал, что убивать — зло? Все возмущённо ахнут, мол, убийство — это, конечно же, зло, но стихнут, когда убьют преступника. Мы ведь все, конечно, гуманисты, но кто сказал, что гуманизм — это хорошо и где граница этого гуманизма? Да и кто подводит черту всему человечеству? Юристы? Их удел формальность. Государство? Его удел порядок. Философы? Их удел остаться безработными после получения диплома, сколько философов — столько и мнений.
Искать ответ на вопрос: «Что такое хорошо и плохо?» — дело совершенно неблагодарное. В каждом взгляде, бегущем по этой строке, читается заранее подготовленный и отточенный ответ. Не менее пошло звучит и вопрос: «Оправдывает ли цель средства?», ответ на него мы даём себе каждый раз, заглядывая в новостную сводку. Кто решает, что мне можно, а чего нельзя? Если весь мир, как заявляют напыщенные скептики, такой «серый» и неоднозначный, если нет в нём абсолютных зла и добра, то кто сказал, что убивать — зло? Все возмущённо ахнут, мол, убийство — это, конечно же, зло, но стихнут, когда убьют преступника. Мы ведь все, конечно, гуманисты, но кто сказал, что гуманизм — это хорошо и где граница этого гуманизма? Да и кто подводит черту всему человечеству? Юристы? Их удел формальность. Государство? Его удел порядок. Философы? Их удел остаться безработными после получения диплома, сколько философов — столько и мнений.
Вопрос, сквозящий в течение всей книги и всего спектакля: «Кто из нас запретит Раскольникову взяться за топор?». Кто первый бросит в него камень? Запретить ему будет настолько же правомерно, как если бы он запретил что-то нам, и кто же прав? А кто много посмеет, тот и прав. Кто на большее может плюнуть, тот и законодатель. Так ли теперь неправ Фрасимах в первой книге «Государства», говоря: «Справедливость — это то, что пригодно сильнейшему». 2000 лет прошло, так ли далеко мы ушли от этих «дремучих» предков с их «жутким жестоким временем». Про Нагорную проповедь и заикаться страшно, вот и Раскольникову страшно. По большому счёту, неважно, считаете ли вы хорошей идеей рубить людей топором или нет — ведь ответ этот, в конечном итоге, сверяется с внутренним мерилом относительно общих правил игры. Но кто же стоит над всем, чтобы диктовать правила? Не знаю, спросите у Сони Мармеладовой.
Выбрать для постановки на малой сцене славящийся своей географией роман было рисковым шагом, однако режиссёрское решение в формате внутреннего диалога позволило выделить выгодную отличительную черту. Кроме нависающих над душой зеркал, с потолка так же свисают увесистые, поросшие царапинами, трубы, чей металлический звон органично наслаивается на музыку и прочий саунд-дизайн. Декорации буквально выстраивают из себя некоторый «заколдованный круг», в котором герой вынужденно бегает от себя, хотя в какой-то момент ему удаётся и вовсе выбежать с криками из зала. В моменты особенного накала мы и вовсе остаёмся в полной темноте, сквозь которую прорезается борьба тёплых и холодных цветов антагонистов. А приговорённый будет метаться от янтарно-жёлтого до бледно-голубой палитры, даже угодив под дождь, что пойдёт прямо на сцене, заливая зрителей бирюзовым свечением. Кроме крупных штрихов, сцену украшают и мелкие выразительные детали: повисшая свеча, знакомый читателям звонок-колокольчик и стол, успевший побывать и стулом, и пьедесталом, и даже своеобразной тюрьмой.
 Мы привыкли видеть героев в действии, спектакль же, идя по книге, даёт необычайную глубину написанному. Происходящее — это мысли перед сном, это съедающий заживо внутренний голос, не знающий ни жалости, ни усталости. Сцена допроса раскрывается совершенно иначе, ибо теперь мы видим её не как сторонние наблюдатели при чтении или просмотра фильма, но изнутри. Как после важного диалога мы задним мозгом понимаем, что спороли глупость, так и Родион Романович, проживая в памяти «клоунаду» допроса, воспринимая её вполне буквально, надевает парик и красный нос, пестрящий контрастом на фоне общей атмосферы отчаяния. Вязкую тьму царапают струи света, лучи зудящей совести мучают его рвущуюся на части душу во внутреннем допросе, потому что задавал эти вопросы теперь отнюдь не Порфирий, ибо теперь он сам свой следователь, свой тюремщик и свой обвинитель.
Мы привыкли видеть героев в действии, спектакль же, идя по книге, даёт необычайную глубину написанному. Происходящее — это мысли перед сном, это съедающий заживо внутренний голос, не знающий ни жалости, ни усталости. Сцена допроса раскрывается совершенно иначе, ибо теперь мы видим её не как сторонние наблюдатели при чтении или просмотра фильма, но изнутри. Как после важного диалога мы задним мозгом понимаем, что спороли глупость, так и Родион Романович, проживая в памяти «клоунаду» допроса, воспринимая её вполне буквально, надевает парик и красный нос, пестрящий контрастом на фоне общей атмосферы отчаяния. Вязкую тьму царапают струи света, лучи зудящей совести мучают его рвущуюся на части душу во внутреннем допросе, потому что задавал эти вопросы теперь отнюдь не Порфирий, ибо теперь он сам свой следователь, свой тюремщик и свой обвинитель.
Так ведь легко за что-то умереть, когда не знаешь зачем жить. Сколько этих наполеонов, ведущих на смерть, наплодят сирот, а кто из наполеонов поведёт утешить хоть одну душу? Да и сам Раскольников не понимает, чем же он виноват перед «ними», перед теми, кто сами, без зазрений совести, сведут в могилу сколько потребуется, да и сам он поначалу жалеет лишь о том, что сознался, даже немного завидуя тем, кто определил его на заключение, тем, кто смог себе позволить больше. Совесть свою неусидчивый каторжанин считает помехой, слабостью, этот остаток света в нём (как раз отделяющий его от Ганнибала, Наполеона и иже с ними) выразительно остался в виде одной висящей на тощем проводе лампы, света которой он боится, но без чьего тепла умрёт.
 В спектакле ретроспектива Раскольникова и события 11 главы Евангелия от Иоанна (Истории про воскрешение Лазаря) проходят параллельно. Как в «Мастере и Маргарите» чередуются события Москвы и Иерусалима, так и здесь, по мере воскрешения Лазаря, воскресает Родион. А параллельно миру, воссозданному режиссёром Андреем Гаврюшкиным (по мотивам романа Достоевского), живёт другой мир за гранью сцены, в котором людей поразила страшная болезнь, заражённые ей никогда ещё не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Они не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром.
В спектакле ретроспектива Раскольникова и события 11 главы Евангелия от Иоанна (Истории про воскрешение Лазаря) проходят параллельно. Как в «Мастере и Маргарите» чередуются события Москвы и Иерусалима, так и здесь, по мере воскрешения Лазаря, воскресает Родион. А параллельно миру, воссозданному режиссёром Андреем Гаврюшкиным (по мотивам романа Достоевского), живёт другой мир за гранью сцены, в котором людей поразила страшная болезнь, заражённые ей никогда ещё не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Они не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром.
Вспоминая Кеплера и Ньютона, взвешивая гений их замысла в массе человеческих жизней, расплёскивая песок по сторонам, швыряя камни, представляя на месте каждого из них человека, не по своей воле положившего свою жизнь в жертву «печки общего прогресса». Всё это со стороны звучит как наивная и жуткая сказка, но как часто мы рассказываем её сами себе, как часто мы молча киваем вслед басням про «тогда было такое время»? А может нет «такого» времени и никогда не было. Есть только время разбрасывать камни и время собирать камни.
Текст: Гарри Реебер
Фото: пресс-служба театра / Ирина Капланова
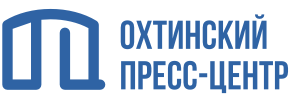





Прокомментируйте первым "Время собирать камни"