В театре «Мастерская» в конце марта прошли премьерные показы спектакля «Стеклянный зверинец» по одноимённой пьесе Теннесси Уильямса.
Соединённые Штаты Америки, тридцатые годы прошлого века. От ревущих двадцатых остался лишь сорванный истошный хрип. В Европе спёртый воздух, сжавшись в предвкушении событий недалёкого будущего, оседает дымом испанских городов, а некогда благополучный островок стабильности, большой дубинки и яблочного пирога утопает в забастовках и безработице. Светлая американская мечта закончилась в «чёрный вторник». Блеск былой славы остался лишь в ностальгических вздохах, впереди долгие года декаданса. Казалось, время загустело, утратив свойство текучести. В одном из человейников «североамериканского Дыбенко» в Сент-Луисе, типичного района среднего класса ютится семья Уингфилдов: сын Том, дочь Лаура, их мать Аманда и персонаж, которого нет, но присутствие которого ощущается сквозь всё повествование — ушедший из семьи отец.
Поначалу может показаться, что это чуждая и далёкая история из совершенно другой вселенной, с другой стороны спектра, другого полушария. Можно поддаться мнению, что нас разделяет железный занавес, что меж нами целый Атлантический океан бытовых различий, что мы — не они, а они — не мы. Однако засыпанный песком и пылью берег Миссисипи будто впадает в поросший снегом гранит Невы, будто побратимы наши подводные камни, а глубины непонимания оказываются вброд. Ведь разве может быть что-то более родное и объединяющее, чем страдания, и что-то более близкое, чем портрет отца, влюблённого в расстояние.
Поскольку всё действие пьесы — это воспоминание человека, в которое мы смотрим, как в дверной глазок, на сцене присутствует только предметы, с которыми взаимодействуют персонажи, как бы выдёргивая только основное. Главный предмет — стол. Он словно перекрёсток, где встречаются дороги персонажей. Ещё — спускаемый с потолка стеклянный зверинец, сделанный в виде подвесной игрушки, с которой играют дети. Будто объединяя одноэтажную и многоэтажную Америку, отходя от изображения улиц, пожарных лестниц и прочей городской пестроты, мы видим минималистичный интерьер обычной квартирки, утонувшей в злаковом море сельской местности. Над персонажами висит окно, прикрытое полупрозрачной тканью. за неё по ходу действия перемещаются персонажи. В окне иногда появляется чей-то силуэт. Из-за такой расстановки — будто бы небольшого острова на фоне большого тёмного пустого пространства — создаётся непередаваемый эффект присутствия в чьём-то сознании, словно это эпизод из нашей жизни, который мы заново проживаем перед сном.
Как и почти любое семейное застолье, открывающая спектакль сцена заканчивается конфликтом. Кажется, что некоторые вещи остаются неизменными сквозь время во всех культурах. Устраняясь от конфликта с детьми, Аманда погружается в кокон воспоминаний, с придыханием считая ухажёров, точно, до запятой, цитируя былые светские беседы и с особенной усладой перебирая возможности, что когда-то у неё были. Она не может принять жизнь, которая у неё осталась, она не желает жить настоящим — тем настоящим, которое лишь нервное предвкушение туманного будущего одинокой, оставленной всеми хрупкой женщины. Непрожитая жизнь подобна вонзившемуся в кожу крючку — и чем дальше, тем сильнее тянется леска, и тем свирепее эта боль. Порождённые безысходностью грёзы упали ярмом ожиданий на шеи детей, каждый изъян которых — ещё более красноречивое напоминание о её уязвимости. Она не может быть уязвимой, больше не может быть: слабость и хрупкость стали недосягаемой роскошью, которой она лишилась, оставшись один на один с этим миром. Она больше не верит в свои силы, в то, что их хватит, чтобы добыть счастье.
Последние надежды на благополучие она возлагает на карьеру сына, на учёбу и на жениха её дочери. Её жизнь утекает из рук в предвкушении «гостя», эфемерного, почти сакрального. Прибытие этой полумифической сущности ощущается в воздухе как предвкушение летнего ливня в тихом ветре свинцовых облаков. Хочется верить, что по взмаху волшебной палочки он сможет вернуть хоть на миг поля из нарциссов — цветов обманутых надежд. А к приходу гостей всё должно быть безупречно, от того и рождается вбитая будто в мышечную память присказка Лауре: «Я хочу, чтобы ты выглядела хорошенькой и свежей… когда к нам придут молодые люди!». Аманда отказывается видеть и запрещает даже говорить о физическом недуге Лауры, она отказывает ей в несовершенстве, она с недоумением и возмущением говорит о её прогулках зимой в лёгком пальто, хоть и сама в молодости вечера напролёт танцевала с малярией.
Самой же Лауре приятнее воспаление лёгких, чем тёплые стены колледжа. Это знакомое большинству студентов чувство вязкой, липкой духоты, растущее с каждой минутой, проведённой вдавленным в стул. Она не выносит это место до рвоты и бежит из него, и ладно бы, из него — бежит от всей жизни. Стук её каблука отдаётся в висок и кажется настолько оглушительным, что она не может и не хочет ничего, кроме как только убежать, завистливо вглядываясь в свободный полёт птиц в зоопарке, улетая в мыслях вдаль в далёкие тропики, толикой которых она так любовалась, заходя погреться в стеклянном доме. Стекло как символ хрупкости, как невидимая стена, разделяющая внешний и внутренний мир, её стеклянный зверинец, в котором так хочется остаться.
Её брат Том, увидев которого в жизни, мы бы могли назвать сильным человеком. Он самозабвенно работает ради семьи, однако всё его естество, вся его внутренность также стремится убежать, вырваться из этой старой песни, идущей по кругу пластинки, оставшейся в наследство от отца. Он оставляет все силы на работе, но не чувствует себя главным или хотя бы нужным в семье, не чувствует жизни, еë движения, еë романтики. Его душа, как и душа любого мужчины, стремится к подвигам, свершениям, но блеклая повседневность обволакивает его словно густые чернила затёкшие в лëгкие. Его жажда упирается в дверь уборной, где он царапает стихи на коробке для обуви, а по возвращению только и успевает обмолвиться парой фраз с домашними, чтобы вновь убежать в кино, где можно хоть на несколько часов быть частью чего-то великого, возвышенного.
Как метко было сказано однажды: «Не дай нам бог жить в эпоху великих перемен». Но что это за жизнь без изменений? Без страха за свою жизнь немыслима молодость, старость ведь не в деревенеющей коже, а в дряхлеющем сердце, что больше не хочет бороться. «Простые смертные сидят в тёмных залах и смотрят, смотрят… Смотрят до тех пор, пока не начнётся война! Вот тогда — пожалуйста, романтика становится доступной массам». Том грезит о торговом флоте, об участии в гуще событий, он всё больше влюбляется в расстояние, начиная всё больше понимать отца, которого так ненавидел.
Том приводит в дом гостя. Он будто животворящее дуновение ветра в открытом окне, будто луч, просочившийся сквозь штору. Желание Аманды, загаданное луне, сбылось, как и желание Лауры. Джим О`Коннор — тот самый спасительный гость, который был столь долгожданным, но к чьему приходу так никто и не был готов. Его судьба могла быть неизмеримо ярче, когда-то казалось, что он умел всё, к чему притрагивался и имел в себе всё, чтобы запечатлеть в истории своё имя. Но жизнь с её новыми вызовами лишь гасила его искру, оставив работать вместе с Томом в одном магазине. Сейчас же его лёгкость стала глотком свежего воздуха, особенно для Лауры. Джим терпеливо выслушивал пассажи Аманды, вдохновлял Тома и раскрепощал Лауру, он словно видел её насквозь и развенчивал её же представления о своей неполноценности, будто зная её лучше её самой, познал красоту этого хрупкого утончённого внутреннего мира, услышал музыку стеклянного зверинца.
В пылу этой буйной смеси романтических чувств и жалости он вскрикивает: «Кто-то должен вселить в тебя уверенность, кто-то должен поцеловать тебя, Лаура!». Они с Джимом скрываются в пёстром изумрудном свечении под символический лязг лопнувшего стекла. Он начинает понимать, для чего его пригласили. Слишком поздно говорить о его возлюбленной Бэтти, с которой уже запланирована свадьба, но невозможно не сказать. Сжимая обитателя стеклянного зверинца — единорога с отломленным рогом, который «теперь совсем не будет выделяться среди остальных, безрогих», гость исчезает столь же резко, как и ворвался в их жизнь. Поцарапанной стеклом рукой Лаура вновь крутит старую пластинку, осколок её внутреннего света и тепла тает как пламя свечи, его потушил ветер перемен. Вновь Том убегает, но теперь не в кино и теперь навсегда. Это долгий бег на месте, хоть сменяются в окне города, теперь весь мир озаряется молниями, в их бы ветках скрыться от себя.
Спектакль очень бережно относится к первоисточнику, сохранив аутентичные диалоги. Персонажи настолько органичные и правдивые, будто их можно узнать в сидящих рядом с тобой зрителях, также убегающих от работы в магазине сюда, в театр. Благодаря перу Уильямса, взгляду режиссёра и невероятно живой игре актёров получилось создать не просто персонажей, а настоящих людей с проблемами, которые невозможно не почувствовать.
Этот спектакль о медленном наступлении резких перемен, рушащих привычный порядок вещей, состоявшись лет шесть назад, смотрелся бы совершенно иначе, нежели сейчас. Невозможно также упустить из внимания работу с декорациями, которые помогают погрузиться в историю с головой; работу со светом, который по-особенному передаёт дух живого сна, живого воспоминания, где каждый персонаж выделен по-особенному, буквально в своём цвете. Завораживающая музыка, сшивающая ткань повествования воедино, играет на струнах чувств слушающих протяжную мелодию и не покидает зрителей даже по дороге домой.
Текст: Гарри Реебер
Фото: пресс-служба театра/Стас Левшин
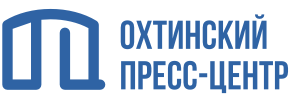





Прокомментируйте первым "Долгий бег на месте"