На вопросы Охтинского пресс-центра о собственных спектаклях, восприятии современного театра, эмоциях, игре и страдании отвечает режиссёр Юлия Панина.
— Юлия Георгиевна, повлияла ли сложившаяся из-за вируса ситуация на Вашу работу и работу Вашей команды?
— А как же! Начались отмены спектаклей не только на весь апрель, но и на май. У нас в апреле были назначены спектакли на трёх площадках, но всё пришлось отменить.
— Многие театры и театральные проекты сейчас переходят на онлайн-показ. Что Вы думаете об этом и планируете ли так показывать свои спектакли?
— Идущие сейчас — нет, а те, которые когда-то были, — да. Только надо, конечно, подготовиться. Сейчас мы не очень готовы, но планируем показ старых спектаклей — тех, которые давно не идут.
— Не думаете ли Вы, что система онлайн-показа спектаклей не очень выгодна театрам, даже в финансовом аспекте?
— Я онлайн-систему не очень понимаю и не совсем с ней согласна. Спектакль — дело живое, нужна отдача. Дело даже не в деньгах, хотя в них, конечно, существует большая нужда, особенно у театров, которые не имеют площадки и находятся, можно сказать, на самоокупаемости.
При этом пауза тоже может быть полезна, но только если она не затянется. Пока у нас пауза.
 — В интервью, связанном с премьерой спектакля «Моя мать — М», Вы упоминали о том, что Ваша мать также была режиссёром. Как Вы считаете, существует ли некая творческая преемственность от родителей к детям?
— В интервью, связанном с премьерой спектакля «Моя мать — М», Вы упоминали о том, что Ваша мать также была режиссёром. Как Вы считаете, существует ли некая творческая преемственность от родителей к детям?
— Понятия не имею! Наверное, не мне говорить об этом. Я действительно училась читать по её афишам — они висели на стенах, было очень удобно читать большие буквы. А про преемственность… Я про это не особо понимаю, хотя знаю, что есть такое выражение как «опилочные дети» — о детях цирковых артистов, чьё детство прошло за кулисами. В таком смысле, может быть, мне это знакомо — детство и отрочество были проведены за кулисами. Не всё время, конечно, но бывало.
Вообще я хотела стать военной, честно сказать. Более того, так бы и сделала, если б на шестой раз не поступила в театральный институт. Я поступала шесть раз. Но четыре года поступала на актёрский, и только два последних — на режиссуру. Один умный человек, очень хороший мастер, к которому я не поступила на актёрский факультет, сказал: «Вы будете проходить до второго тура, а дальше Вас пропускать не будут, и вообще Вам надо поступать на режиссуру». В общем, я послушалась и стала поступать на режиссуру.
— А с чего началась Ваша карьера в сфере театра после выпуска из института?
— Мы учились шесть лет. Нам продлили обучение на год, потому что мы участвовали в русско-американском проекте — постановке «Ревизора» по Мейерхольду, по его записям с Йельской школой драмы в Нью-Хейвене. Спектакль был восстановлен с добавлением современных историй. И этот проект занял у нас год. Мы ездили туда, в их школу, американские студенты приезжали к нам, поэтому и учились мы шесть лет, а не пять. И диплом не удалось защитить. Пред-диплом был сделан — одноактный спектакль «Квартира Коломбины», а диплом не получался. И окончила институт я в 1999 году, а мой первый спектакль был впервые показан хоть где-то только в 2002 году, была большая пауза.
Как это получается? Получается это примерно так: ты сидишь у своей книжной полки, берёшь книгу, открываешь и понимаешь: «Вот этот материал я и хочу сделать». Ничего особенного в нём не было. Хотя были, конечно, и экспликации, и разборы, разные пьесы, но не получалось. И с полки взялась книга Курта Воннегута «Бойня номер пять». Это и был первый спектакль, который мы сделали просто в комнате. И декорации, который делал ныне мастеровитый и признанный художник Коля Слободяник. Маша Лукка, Саша Мохов… Эти люди и делали нам «Бойню». Тогда они не были так известны и популярны. Вот как была расположена комната, в которой мы репетировали, так они всё и сделали. Репетицию мы немного сняли на видео. Пошли на некий стадион, когда там уже никого не было, и снимали.
Изначально в «Бойне номер пять» играл Константин Фёдоров, который тоже сейчас очень известный драматург. Он не артист был, а театровед, но как-то так получилось. А он был знаком с Дмитрием Поднозовым, и мы это видео принесли в «Особняк». И нас поставили в репертуар. Это и было первое, что мы играли. Так я попала в «Особняк».
— Мне кажется, люди, обладающие талантом, могут выделить среди своих работ те, что нравятся больше, и те, которые нравятся чуть меньше. Можете ли Вы назвать свою постановку, которую считаете самой удачной или любимой?
— На мой взгляд, если ты можешь это сделать, то дальше делать ничего и не надо. Спектакль живёт, пока ты его делаешь. Дальше у него начинается самостоятельная жизнь, к которой ты не имеешь отношения. Это правда. Это как с детьми: их в какой-то момент нужно отпускать.
Никогда ничего не восстанавливаю и не дублирую. По крайней мере, пока стараюсь этого не делать.
Нет, нельзя выделить какой-то один спектакль. Это как вопрос: «Кто самый лучший артист в вашей команде?» Или спросить: «Кто самый любимый ребёнок из ваших пяти?». Также не могу сказать про нелюбимые работы.
Очень люблю брать материал, который мне не нравится. Вообще была и противоположность: пьеса, которой я горела, она мне очень нравилась, и она не получилась. Было сильное личное подключение, уже начинаешь испытывать некий пиетет перед материалом. Может, поэтому (или не знаю, почему) перестаёшь видеть со стороны. А это виденье необходимо. Если я не вижу картинки, когда ты начинаешь видеть не сразу весь спектакль целиком, а какие-то эпизоды, то продолжать уже бесполезно. А когда начинаешь видеть картинки, то, возможно, что-то получится. Но гарантий же нет. Театр — это, прежде всего, люди. Не стены, не условия, не возможности репетировать. А люди имеют свойство подтягиваться со временем. Не знаю, может, как кошки идут на тепло. Они подтягиваются, и значит это нужно. А если нет — значит не нужно. Или не время. И это относится ко всему.
 — Спектакль «Гамлет Ричард Лир», как по мне, сложная постановка, требующая от зрителя большой начитанности для полного её понимания. Существуют ли подобные спектакли, созданные вашей командой?
— Спектакль «Гамлет Ричард Лир», как по мне, сложная постановка, требующая от зрителя большой начитанности для полного её понимания. Существуют ли подобные спектакли, созданные вашей командой?
— Монтажно составленные?
— Да.
— Почти все. Но мне не казалось, что это сложный материал. Опять же, команда была хорошая, люди, которые, может, это не совсем понимали. Не понимали, во что это выльется… Но, как мне кажется, оно ещё и не вылилось. Он ещё слишком молод, чтоб о нём говорить как о чём-то состоявшемся. И в процессе он ещё обрастал каким-то материалом. А про сложность я не понимаю. Если сложно, если ты будто через что-то прорываешься — значит, либо ты не понял, либо не чувствуешь. Да и материал тут не так важен.
Мне хотелось сделать мужскую историю. В какой-то момент я поняла, что, грубо говоря, хочу сделать паузу в общении с актрисами и пообщаться только с актёрами-мужчинами. И что-то на этом сделать. Это прозаическая история, лишённая глобальных идеологических идей. А дальше я просто подумала: «О чём могут говорить мужчины в отсутствие женщин?». Я думаю, ответ напрашивается сам собой, темы-то только две. И вот на этом и был построен спектакль. А в какие большие идеологии это выливалось, если они есть — непонятно.
Мне кажется, театр — это вообще история весёлая. Не в смысле чего-то развлекательного, а я имею в виду, что, если ты этим занимаешься всерьёз, — это тупик. Надо с юмором относиться к себе и к тому, что ты делаешь. Но только не к людям. И тут материал совпал, потому что Шекспир, как я думаю, тоже относился с юмором. Несмотря на все драмы, юмора там очень много. Хотя мы брали только трагедии. Мне всегда нравится снимать на театре кино, если можно так сказать. Я работаю планами: крупными, средними, дальними — я всё время снимаю кино. И первая сцена, шесть монологов, это по сути кинопробы. Артисты знали, что это кинопробы. И условие было такое, что для этих кинопроб у них только один дубль. Самое удивительное, что мальчики вопросов и не задавали, а сразу поняли и даже не возражали.
И это история актёрская, ведь шекспировские произведения были поставлены все, и были написаны для постановки и для публичного представления, я не беру сонеты. И было интересно поисследовать, как звучит всё написанное во внутреннем монологе. Было интересно изучать парадокс звучания вслух произнесённого внутреннего монолога. Этим мы и занимались. Ни о каких больших смыслах речи не шло, идея была совершенно иная. Я просто увидела для себя интересную вещь: как же так — внутренний монолог вслух. И что происходит с человеком, когда его слышно.
Вообще всё, что происходит с человеком, — тема театра. И это не мои прихоти, мы работали в команде, это командная история. Ребята приносили монологи или иные отрывки, которые они хотели произнести. Например, Женя Сиротин, когда я ему сказала принести монолог, который он хочет прочитать, сказал сразу: «Яго!». Я у него спрашиваю: «Почему Яго?», а он мне отвечает: «Хочу — и всё». И я не знаю, по какому принципу каждый выбрал своего героя. Значит, в них что-то отзывается какими-то их ассоциациями. И всё было построено на их откликах, только в таком режиме и можно работать. Причастность артиста к работе не только в том, что в расписании он назначен на определённую роль. А дальше мы этим материалом стали играть. И, наверное, театр и есть игра. Игра между собой совершенно разных людей, которые до этого не были никогда связаны в работе. Я имею в виду, ребята могут быть даже не знакомы ранее между собой. Самый молодой, Рома Вебер, ранее не работал с остальными. Они могут быть из разных школ, иметь разные мировоззрения, и то, что они оказались в одном пространстве этих шекспировских текстов, могло стать и испытанием для них в один момент. Кто-то был ранее связан, поскольку часть моей команды давно работала, а самый «древний» участник моей команды — Кирилл Утешев — со мной как раз с пред-диплома. И в «Бойне» он был неизменным составом. А все остальные приходили постепенно. И Рома был приглашён только на Шекспира. То есть, людям, по большому счёту, не о чем разговаривать, они не связаны ничем, а им нужно разговаривать. Это и было интересно.
 — Получается, спектакли, созданные путём смешивания разных произведений с получением в итоге новой картины, нового сюжета, привлекают Вас именно монтажным принципом работы?
— Получается, спектакли, созданные путём смешивания разных произведений с получением в итоге новой картины, нового сюжета, привлекают Вас именно монтажным принципом работы?
— Да, то, о чём я говорила, про кино в театре. Но у меня нет задачи менять сюжет. То, что уже написано и много раз поставлено, хоть тот же «Гамлет», не нужно переделывать. Пытаться удивлять тем, что мы переделали сюжет? Нет, фокус в том, что сюжет нигде не меняется. Мы соблюдали все ремарки.
— Мне кажется, сюжет не меняется, а создаётся новый.
— Это да, по сути, мы пишем пьесу каждый раз. Так было с Чеховым, так было с «Посторонним», и также было с «Кроткой», это всё равно микс.
— Да, как с «Кроткой». Вы же мешаете два мира?
— Ну, если переходить на «Кроткую», стоит сказать, что сценарий не мой. Я чуть позже подключилась к работе. Мной был внесён только один кусочек. Так что я там ничего не составляла, сценарий уже был разбит на четырёх персонажей, а как эти персонажи ведут себя между собой — тут есть моя работа. Ну, и кино, само собой. Это был мой первый кинематографический опыт. Это было страшно, интересно и непонятно.
— Не думали повторить опыт с «Кроткой», снова смешав мир классической литературы и мир кино?
— Круче Олега Борисова всё равно никто не сыграет. Улучшать прекрасное не хочу, потому что я ничего никогда не реанимирую. Понимаю, что сюжет вечный и Достоевский бессмертен, но нет. Пока не планирую делать что-то подобное, к тому же, это была чужая идея.
— А создать что-то своё по тому же принципу?
— У меня столько спектаклей практически по одному принципу… Я далеко не ухожу от того, что делаю. Возможно, будет что-то другое. Я вообще тяжело сейчас стала относиться к экранизациям во время спектакля. Если нужен экран — для меня это всегда напряг. Дело не в смешивании кино и литературы. А в «Кроткой» экран был словно отдельный персонаж. И когда мы это поняли, только тогда что-то смогло происходить дальше. Совпадение или нет, но это тоже действующее лицо, это не просто кино, не смесь, это треугольник: артист — артист в виде экрана — ещё один объект. И когда мы поняли эту структуру, то поняли и какие взаимосвязи у них у всех.
Не могу сказать, что это одноразовый опыт, дело не в этом. Он был первым, отсюда он ценен. Повторять пока не хочется. А вот кино в чистом виде снять было бы интересно. Кстати, по Шекспиру хочу снять. По спектаклю даже, я бы сказала. По поводу формата не знаю, есть просто задумка такая. У меня большие надежды на лето. Даже ребята уже знают, что я хочу снять кино. А что из этого выйдет — не знаю… Планировать я не могу. Пришла такая мысль в голову, а реализуется ли она во что-то? Но мысль такая есть.
— Чего Вы требуете от сценария и чего Вы требуете от зрителя?
— Никто никому ничего не должен, в том числе и сценарий. Зритель — тем более. Столько уже создано в мировой литературе, что только успевай это использовать. Если материал есть, если он интересен и он настоящий, а ты это поймёшь, то нужно использовать. Тут нет никаких требований, просто либо есть отклик, либо его нет. Также и с людьми. Очень многие уходили с «Кроткой», да и с других спектаклей. Всё по живому — либо в тебе что-то отзывается, либо нет.
 — Было бы Вам сейчас интересно поставить реалистичный, а не постмодернистский спектакль?
— Было бы Вам сейчас интересно поставить реалистичный, а не постмодернистский спектакль?
— Точно знаю, что я не хочу делать социальные вещи. Не в плане социальных проектов, а, грубо говоря, «на злобу дня». Правда, я думаю, что сейчас есть возможность взять пьесу и сделать её по-простому, как она написана. Пьеса эта совсем современная, написанная молодым автором. Не то, что это планы, — так, просто возникающие мысли. Сейчас это уже практически в работе.
Я вообще не делаю сложных историй, зачем усложнять? И меня так учили, что всё самое большое и сложное опускает тебя до уровня плинтуса. Я имею в виду: чем сложнее это кажется, тем примитивнее на самом деле эта мысль. Вопрос должен быть проще, тогда зритель может что-то вынести для себя, он уносит с собой какие-то мысли. Не надо рассказывать подробнейшим образом и объяснять всю историю.
В какой-то момент я поняла, что театр абсурда — самый конкретный. Если у тебя есть совершенно конкретный вопрос и у других он есть, то соединение с этой конкретикой здесь и сейчас и даёт этот абсурд. Когда кажется, что просто, — в этом и есть подвох. Вообще, когда смотрят разные люди, — каждый видит своё, в этом и прелесть. Я сама с удовольствием смотрю, я благодарный зритель.
Но что я не люблю, так это когда меня обманывают. Хотя театр и так является обманом. Отелло душит Дездемону — ты веришь, плачешь, а потом они в антракте вместе пьют пиво. Это же обман, — но такой обман, до катарсиса, из чего и состоит театр, я люблю. А когда меня на голом месте обманывают в спектакле, мне это очень не нравится. Я не понимаю, если вы сами всё знаете, то для чего вам я, зритель? Я хочу получить удовольствие, посмеяться и поплакать, и мне плевать, как это сделано, близко это мне или нет, а меня обманывают в моих неких ожиданиях. Я готова откликнуться, а мне не дают. Какое тогда удовольствие? А театр и есть удовольствие. Просто тем, кто это делал, было интереснее то, что они делают, а не как это откликается в зале. Или бывает так, что они занимаются чем-то, что к сидящим в зале не имеет никакого отношения. Но ведь если интересно тебе — будет интересно другому.
В истории русского театра есть две категории: театр-переживание и театр-представление. Так вот я за театр-представление. Я не люблю психологический театр, я очень боюсь психологии, я не психолог, я ничего в этом не понимаю и не должна понимать. Почему актёр должен сам переживать, страдать и показывать это ещё? И, к сожалению, сколько я вижу молодых выпускников разных школ, ощущение, что учат только одному — страдать.
— Сейчас на этом многое держится, да.
— А тогда где игра? Во что мы играем? Хочется — сиди переживай, страдай. А я как зритель тут причём?
 — По сути, зрителя просто выводят на эмоции.
— По сути, зрителя просто выводят на эмоции.
— Да, и на пустом месте! В комедии, в трагедии, фарсе, притче — всё построено на страдании. А вот поверить в элементарную ситуацию… Не погрузиться! А именно поверить, а то все эти погружения, присвоения… Кого мы будем обманывать? А то, что говорит через тебя, — важнее. Ты говоришь, через тебя этот персонаж звучит. В этом связь и движение, а не в каком-то страдании на тему.
— Какие спектакли коллег нравятся лично Вам?
— Очень люблю, например, Роберта Стуруа, особенно его шекспировские спектакли. А из тех, что сейчас звучат, мне очень нравятся спектакли Лены Павловой. Близко. Не знаю, чем именно, не могу сказать. Даже не буду в этом разбираться. Я не понимаю, как она это делает, я так не умею. Я ей даже завидую белой завистью. И очень благоволю. Очень мне интересен этот человек и интересно то, что она делает, скажу так.
Интервью: Алиса Витковская
Фото: Юлия Капп, Надежда Сомкина
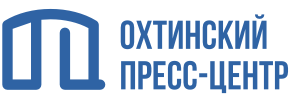

Отлично построено интервью. Заинтересованно.
Откровенны ответы Юлии Георгиевны. Интересные мысли. Интересные задумки. Интересный человек.
Спасибо.