В театре «Мастерская» прошли премьерные показы анимационного спектакля «Превращение» по мотивам одноимённой повести Франца Кафки.
 Криво свисающая люстра, покосившаяся набок комната, обитая мягкими, дутыми, как в психбольнице, стенами, которые текстурой напоминают испачканный временем, некогда белый кухонный фартук. Cнизу доверху стены порваны, покрыты дырами в виде порезов. Фрагмент стены, откатываясь, позволяет увидеть часть гостиной, залитой холодным синим светом. Вымазанное царапинами и отпечатками рук окно, вместе с дверью, символично вмонтированной в потолок, являются единственными порталами во внешний мир. За редким исключением, они остаются закрытыми, изолируя комнату от окружающей действительности. Кровать и стулья многократно обёрнуты не то в гипс, не то в бумажный скотч. Вся сцена — будто застывший кадр из фильма про кораблекрушение, где некогда крепко стоявшие на палубе объекты спешно скользят в сторону крена корабля. В центре зала выделяется импровизированный подиум, протянувшийся от сцены на три ряда к зрителям и перекрывающий собой часть мест.
Криво свисающая люстра, покосившаяся набок комната, обитая мягкими, дутыми, как в психбольнице, стенами, которые текстурой напоминают испачканный временем, некогда белый кухонный фартук. Cнизу доверху стены порваны, покрыты дырами в виде порезов. Фрагмент стены, откатываясь, позволяет увидеть часть гостиной, залитой холодным синим светом. Вымазанное царапинами и отпечатками рук окно, вместе с дверью, символично вмонтированной в потолок, являются единственными порталами во внешний мир. За редким исключением, они остаются закрытыми, изолируя комнату от окружающей действительности. Кровать и стулья многократно обёрнуты не то в гипс, не то в бумажный скотч. Вся сцена — будто застывший кадр из фильма про кораблекрушение, где некогда крепко стоявшие на палубе объекты спешно скользят в сторону крена корабля. В центре зала выделяется импровизированный подиум, протянувшийся от сцены на три ряда к зрителям и перекрывающий собой часть мест.
Совершенно непривычно, что спектакль по Кафке отходит от формата завершённой философской истории, которую по обыкновению вручают зрителю в готовом, упакованном в метафоры виде. Здесь же режиссёр Роман Габриа, через притчу, сквозь своих персонажей ведёт живой диалог со всеми пришедшими, говоря не столько о философии, сколько о психологии, о педагогике, о жизни. Этот разговор, пожалуй, впервые обращён к настолько широкой семейной аудитории. Радует, что происходящее на сцене не свелось к морализаторству, не обеднело в своих смыслах, но наоборот прибавило ещё одно уникальное видение к повести, которую ценят за широту прочтения и бездонность интерпретации.
 Титанический труд был проделан в области пластики. Движения героев ощущаются не как человеческие, но как заимствованные из советских мультфильмов 1960-х годов. Каждому персонажу присущи особые, раскрывающие и, в то же время, подчёркивающие индивидуальные черты: тембр голоса, повторяющиеся реплики, повторяющиеся движения — от прерывистых и грациозных до незначительных, но степенных. Скорость и грация каждого сплетается в единый, по-кафкиански далёкий от привычного образ, настолько, что окончательно перестаёшь видеть актёра и начинаешь видеть персонажа, которого чувствуешь, несмотря на минималистичность диалогов. Ибо всё, что нужно рассказать о нём и обо всём происходящем, говорит и истолковывает изобразительная сторона спектакля. Как и подобает анимации, она коммуницирует со зрителем невербально, косвенно, символьно, уважая находчивость в ваших глазах. Команда совершает, казалось бы, невозможное, воссоздавая двухмерную «перекладку» анимации Норштейна с её тонкостями в наш трёхмерный мир. Превращая сцену в мультстанок, на котором персонажи, находясь на одной сцене, при этом оказываются как бы в разных плоскостях: стоя на подиуме, заглядывая в душу зрителю, иногда даже лёжа на полу, общаясь с хозяином конторы (говорящим буквально сверху вниз через дверь в потолке) и даже залезая на потолок и стены.
Титанический труд был проделан в области пластики. Движения героев ощущаются не как человеческие, но как заимствованные из советских мультфильмов 1960-х годов. Каждому персонажу присущи особые, раскрывающие и, в то же время, подчёркивающие индивидуальные черты: тембр голоса, повторяющиеся реплики, повторяющиеся движения — от прерывистых и грациозных до незначительных, но степенных. Скорость и грация каждого сплетается в единый, по-кафкиански далёкий от привычного образ, настолько, что окончательно перестаёшь видеть актёра и начинаешь видеть персонажа, которого чувствуешь, несмотря на минималистичность диалогов. Ибо всё, что нужно рассказать о нём и обо всём происходящем, говорит и истолковывает изобразительная сторона спектакля. Как и подобает анимации, она коммуницирует со зрителем невербально, косвенно, символьно, уважая находчивость в ваших глазах. Команда совершает, казалось бы, невозможное, воссоздавая двухмерную «перекладку» анимации Норштейна с её тонкостями в наш трёхмерный мир. Превращая сцену в мультстанок, на котором персонажи, находясь на одной сцене, при этом оказываются как бы в разных плоскостях: стоя на подиуме, заглядывая в душу зрителю, иногда даже лёжа на полу, общаясь с хозяином конторы (говорящим буквально сверху вниз через дверь в потолке) и даже залезая на потолок и стены.
 Буквально всё в этой комнатке, в этом интерьере, в этих персонажах кричит о сюрреалистичности. Принимая её сначала в штыки, погружаешься в неё, как в холодное озеро, постепенно привыкая и через некоторое время уже не желая выходить обратно — навстречу грубому питерскому ветру. Открывающая сцена из книги многократно повторяется, при этом вопль будильника с каждым новым разом всё больше теряет гармонию звучания, разваливаясь на расплывшиеся рваные зажёванные писки, щёлканье идущей стрелки, скрип посуды. Всё это сплетается в одну волну звука, которая обрушивается с такой громкостью и силой, что порою кажется: повторись эта сцена ещё несколько раз, и самому можно зашипеть по-тараканьи. Музыка из «Твин Пикса» в её новом электронном атмосферном звучании и костюмы персонажей переносят происходящее в совершенно иное измерение. Семейство Замза, кроме Грэгора, предстаёт в гипертрофированных грязно-серых мешковатых костюмах, фактурой отдающих живописью Рубенса, со стойким флёром полотен Дали.
Буквально всё в этой комнатке, в этом интерьере, в этих персонажах кричит о сюрреалистичности. Принимая её сначала в штыки, погружаешься в неё, как в холодное озеро, постепенно привыкая и через некоторое время уже не желая выходить обратно — навстречу грубому питерскому ветру. Открывающая сцена из книги многократно повторяется, при этом вопль будильника с каждым новым разом всё больше теряет гармонию звучания, разваливаясь на расплывшиеся рваные зажёванные писки, щёлканье идущей стрелки, скрип посуды. Всё это сплетается в одну волну звука, которая обрушивается с такой громкостью и силой, что порою кажется: повторись эта сцена ещё несколько раз, и самому можно зашипеть по-тараканьи. Музыка из «Твин Пикса» в её новом электронном атмосферном звучании и костюмы персонажей переносят происходящее в совершенно иное измерение. Семейство Замза, кроме Грэгора, предстаёт в гипертрофированных грязно-серых мешковатых костюмах, фактурой отдающих живописью Рубенса, со стойким флёром полотен Дали.
 Все три часа предстают сплошным перформансом по слому штыков первичных впечатлений. Пришедшие за экзистенциальной упаднической дозой осенней хвори будут удивлены непрестанным интерактивом, семейной направленностью и дарующим надежду медитативным вторым актом. Насколько же будет шокирована почти артхаусной оболочкой и семейная аудитория, наблюдающая за сценой превращения, агрессивно подмигивающей фильмам ужасов про экзорцистов, которые родители обычно запрещают смотреть своим чадам, но которые неминуемо будут ими просмотрены на ночёвках у друзей. Этот перформанс успевает прокатить на эмоциональных американских горках, каждый раз устанавливая темп и настроение повествования и тут же ломая его. Драматичные и по-настоящему вселяющие тревогу от сопереживания сцены могут неожиданно смениться самой настоящей экскурсией в дом Грэгора, изобилующей юмором и щедро сорящей отсылками на популярную культуру (на которую само собой повлиял и Грэгор, кто же ещё помогал своим кряхтением саунддизайнерам фильма «Чужой»).
Все три часа предстают сплошным перформансом по слому штыков первичных впечатлений. Пришедшие за экзистенциальной упаднической дозой осенней хвори будут удивлены непрестанным интерактивом, семейной направленностью и дарующим надежду медитативным вторым актом. Насколько же будет шокирована почти артхаусной оболочкой и семейная аудитория, наблюдающая за сценой превращения, агрессивно подмигивающей фильмам ужасов про экзорцистов, которые родители обычно запрещают смотреть своим чадам, но которые неминуемо будут ими просмотрены на ночёвках у друзей. Этот перформанс успевает прокатить на эмоциональных американских горках, каждый раз устанавливая темп и настроение повествования и тут же ломая его. Драматичные и по-настоящему вселяющие тревогу от сопереживания сцены могут неожиданно смениться самой настоящей экскурсией в дом Грэгора, изобилующей юмором и щедро сорящей отсылками на популярную культуру (на которую само собой повлиял и Грэгор, кто же ещё помогал своим кряхтением саунддизайнерам фильма «Чужой»).
 Автор играет с привычной концепцией театра, и теперь зритель — это не просто сторонний наблюдатель, а полноценный участник, который общается с актёрами, делает селфи с залом со сцены и даже в волонтёрском порыве вживается в роль домработницы, помогая прибирать комнату Грэгора во время антракта. И много чего ещё, о чём стоит здесь умолчать, дабы оставить приятную интригу и возможность прочувствовать всё самим. Каждый раз, когда вы думаете, что знаете, что произойдёт дальше, спектакль вновь входит в крутой поворот, разбавляя трагедию лёгкой «лифтовой» музыкой, а общий эмоциональный подъём от ощущения «ситкомовости» легко может разразить эпизод психологического хоррора.
Автор играет с привычной концепцией театра, и теперь зритель — это не просто сторонний наблюдатель, а полноценный участник, который общается с актёрами, делает селфи с залом со сцены и даже в волонтёрском порыве вживается в роль домработницы, помогая прибирать комнату Грэгора во время антракта. И много чего ещё, о чём стоит здесь умолчать, дабы оставить приятную интригу и возможность прочувствовать всё самим. Каждый раз, когда вы думаете, что знаете, что произойдёт дальше, спектакль вновь входит в крутой поворот, разбавляя трагедию лёгкой «лифтовой» музыкой, а общий эмоциональный подъём от ощущения «ситкомовости» легко может разразить эпизод психологического хоррора.
 Разделённые антрактами действия также представляют собой слом ожиданий. Приучив зрителя к сумасшедшему темпу и постоянным качелям, его запирают на меланхоличное, тянущееся терапевтически долго продолжение. Эта пауза, это молчание, кричащее громче будильника открывающей сцены. Мы робко, из темноты, как из-за угла, подглядываем, как на сцене остались только домработница и вымазанный краской, весь облепленный грязью Грэгор. В этой сцене люди, негодовавшие и горящие праведным гневом на семью, оставившую бедное насекомое, сами становятся его «семьёй». Когда место под нами от неловкого ожидания стало неудобным и твёрдым, когда мы, не получив ожидаемого (в нашем случае — ярких эмоций), сами отворачиваемся от Грэгора, сами становимся теми, на кого копили злобу весь первый акт. И, возможно, из-за нашего неприятия кто-то сейчас лезет на стену и пытается безнадёжно до нас дошипеться. Это яркая иллюстрация того, как внешние условия могут расчеловечить нас, вытолкнуть, как сапог господина Замзы в комнату, где мы останемся в надежде закрыться от мира, который, спросим себя начистоту, был ли хоть когда-то понимающим? Но ведь и двери этой комнаты, двери внутреннего ада закрыты изнутри. Каждый из нас может одним неудачным утром проснуться «насекомым», которому противна еда и безразличен сон, которое тоже считает, что ему нужно исчезнуть, дабы не мешать счастью других.
Разделённые антрактами действия также представляют собой слом ожиданий. Приучив зрителя к сумасшедшему темпу и постоянным качелям, его запирают на меланхоличное, тянущееся терапевтически долго продолжение. Эта пауза, это молчание, кричащее громче будильника открывающей сцены. Мы робко, из темноты, как из-за угла, подглядываем, как на сцене остались только домработница и вымазанный краской, весь облепленный грязью Грэгор. В этой сцене люди, негодовавшие и горящие праведным гневом на семью, оставившую бедное насекомое, сами становятся его «семьёй». Когда место под нами от неловкого ожидания стало неудобным и твёрдым, когда мы, не получив ожидаемого (в нашем случае — ярких эмоций), сами отворачиваемся от Грэгора, сами становимся теми, на кого копили злобу весь первый акт. И, возможно, из-за нашего неприятия кто-то сейчас лезет на стену и пытается безнадёжно до нас дошипеться. Это яркая иллюстрация того, как внешние условия могут расчеловечить нас, вытолкнуть, как сапог господина Замзы в комнату, где мы останемся в надежде закрыться от мира, который, спросим себя начистоту, был ли хоть когда-то понимающим? Но ведь и двери этой комнаты, двери внутреннего ада закрыты изнутри. Каждый из нас может одним неудачным утром проснуться «насекомым», которому противна еда и безразличен сон, которое тоже считает, что ему нужно исчезнуть, дабы не мешать счастью других.
 Любовь в спектакле показана с той стороны, которая часто ускользает, уступая место в массовой культуре более «ярким» проявлениям «любви». Эта сторона, которую никто не увидит, ибо в последние десятилетия её не принято сильно освещать, она не кинематографична, но именно эта сторона через терпение, смирение и безусловную заботу, не боящуюся замараться в чужой грязи, может вернуть человеческий облик. Не имея её, любой может неожиданно для себя превратиться в чудовище. Эта сторона знакома каждому, кто работал с трудными (да и не только трудными) детьми, когда, преодолевая себя из раза в раз, понимая их короткую на добро память, ты доказываешь им, что ты на их стороне, что тебе можно верить, когда твой труд никто не увидит и не оценит, когда твой труд может остаться, и, скорее всего, останется бесплодным. Но ты продолжаешь стучаться в закрытые комнаты их сердец и продолжаешь с каким-то странным, зажатым в лёгких трепетом смотреть, как весь второй акт домработница смывает налипшую за эти три часа грязь с Грэгора, омывает ноги, снимает уже деформированную хитиновую оболочку. Эта странная, если подумать, но по-своему умилительная сцена даёт своей медитативностью по-настоящему бесценное время, чтобы побыть наедине со своими внутренними тараканами. В это время начинаешь замечать, что главное в этом спектакле — не внешние метаморфозы на сцене, а внутренняя метанойя в тёмных глубинах зрительского зала.
Любовь в спектакле показана с той стороны, которая часто ускользает, уступая место в массовой культуре более «ярким» проявлениям «любви». Эта сторона, которую никто не увидит, ибо в последние десятилетия её не принято сильно освещать, она не кинематографична, но именно эта сторона через терпение, смирение и безусловную заботу, не боящуюся замараться в чужой грязи, может вернуть человеческий облик. Не имея её, любой может неожиданно для себя превратиться в чудовище. Эта сторона знакома каждому, кто работал с трудными (да и не только трудными) детьми, когда, преодолевая себя из раза в раз, понимая их короткую на добро память, ты доказываешь им, что ты на их стороне, что тебе можно верить, когда твой труд никто не увидит и не оценит, когда твой труд может остаться, и, скорее всего, останется бесплодным. Но ты продолжаешь стучаться в закрытые комнаты их сердец и продолжаешь с каким-то странным, зажатым в лёгких трепетом смотреть, как весь второй акт домработница смывает налипшую за эти три часа грязь с Грэгора, омывает ноги, снимает уже деформированную хитиновую оболочку. Эта странная, если подумать, но по-своему умилительная сцена даёт своей медитативностью по-настоящему бесценное время, чтобы побыть наедине со своими внутренними тараканами. В это время начинаешь замечать, что главное в этом спектакле — не внешние метаморфозы на сцене, а внутренняя метанойя в тёмных глубинах зрительского зала.
Закончить хотелось бы цитатой человека, знаменитого тем, что омывал другим ноги: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Текст: Гарри Реебер
Фото: пресс-служба театра/Стас Левшин
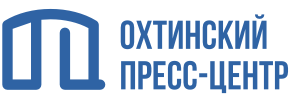





Прокомментируйте первым "Хитиновая метанойя"